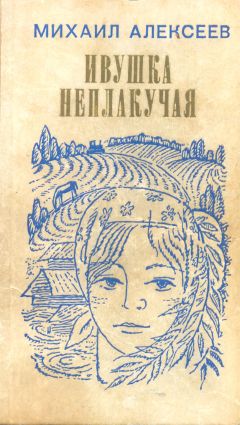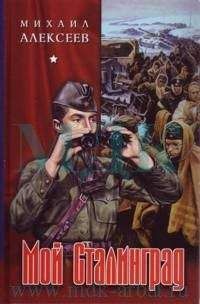Вспомнив наконец эту давнюю, совершенно было забытую им историю, Пишка решил: «Это ведь он отомстил мне, щенок! Ну что ж, парень, держись и ты! Наступит и мой черед возвернуть тебе должок!» Теперь он выслеживал ночами Павла Угрюмова и в проулке, ожидая, когда тот будет возвращаться либо с полей, либо с гулянки, либо из клуба, но тот, словно бы его кто предупреждал, приходил домой с другого конца села, другим проулком, а то и просто огородами, задами. Бывало, что шел и своим проулком, но не один, а с заневестившейся сестренкой Катей, которая, однако, не успела еще завести «миленка», чтобы тот провожал ее домой, — льнула, трусиха, к братниному плечу. Залегал Пишка и в поле, где-нибудь в ложбинке или вымоине, неподалеку от борозды, где, по его расчетам, должен проходить трактор, ждал, когда подкрадется сзади, вскочит, неслышный в реве мотора, на машину и вонзит меж лопаток врага по самую рукоять вот этот остро отточенный нож — рукоять горела в Пишкиной ладони, прожигала ее до косточек. Но и тут была осечка: по неизвестным Пишке причинам Павлик оказывался в это время со своим плугом где-то совсем в другой стороне степи. Словом, что-то обязательно в последнюю минуту мешало Пишке привести в исполнение свой приговор. Но он не отчаивался, подбадривал себя. «Ничего, — обращался он мысленно к Павлу, — погуляй еще чуток, пожируй с девками, от меня все одно никуда не убежишь». Время между тем шло, оставляя после себя год за годом. В житейской кутерьме, в делах, заботах, в бесконечных тревогах, в людских смертях и рождениях, в бесчисленных малых и больших событиях годы эти мелькали, как спицы в колеснице, и не схватишь рукою ту спицу, не придержишь — вырвется да еще и покалечит тебя. Потом Павел ушел в армию, а вернувшись, быстро женился — посыпались один за другим дети, их было у него уже трое. Пишку это малость смущало: дети есть дети, они ничего не знают, зачем же их делать сиротами? Но эти колебания были преходящи. Свинцовая тяжесть обиды вновь давила на сердце, наливая и его этой тяжестью. И Пишка опять ждал, опять выслеживал. Порою терпение его истощалось, и тогда он торопился хоть чем-нибудь, да набедокурить любому, кому угодно, лишь бы этот любой и кто-угодный принадлежал к угрюмовской породе или присланивался к ней хоть каким-то краем. В такой час и порешил он Фенину корову, накормил ее отрубями с опилками, но был крайне удивлен и разочарован тем, что хозяйка спокойно перенесла эту беду, не подымала шума, не заявляла ни в сельсовет Саньке Шпичу, ни участковому милиционеру, жившему в Завидове, не делала даже самой слабой попытки отыскать злоумышленника, о котором, конечно же, догадывалась; не стукнула палец о палец и тогда, когда бригадир тракторной бригады Тимофей Не-пряхйн, под величайшим секретом разумеется, сообщил ей, что собственными глазами видел, как его бывший — Тишка так и сказал: «бывший», — друг-приятель Епифан, прячась за глухою стеной подновленной своей избы, выворачивал карманы ватника и тщательно вытряхивал остатки железных опилок, тут же присыпая их землей. Может быть, потому вела себя так странно и решительная и небоязливая Федосья Угрюмова, что сразу три важных события вывели, вытряхнули ее хоть из нелегкой, но все же привычной жизненной колеи, события, после которых она долго не находила себе места, иногда забывая даже, что делает, что говорит, куда и зачем идет. Они накатывались одно за другим, те события: смерть Знобина, заставившая Феню почувствовать себя сиротой при живых отце и матери; уход Филиппа в армию, усиливший ощущение этого сиротства; возвращение Авдея, тотчас отогнавшее чувство одинокости и неприкаянности, но как бы лишившее ее разума: на какое-то время Феня сделалась вызывающе беспечной и безоглядно отчаянной, когда и более тяжкая, чем гибель коровы, беда могла бы пройти мимо ее сердца. Теперь она открыто сражалась и с Надёнкой, и с ее матерью Матреной Дивеевной Штопа-лихой, и с матерью Авдея, и с Пишкою, неизменно бравшим сторону Фениных врагов. Последняя схватка с одним из них была очень свежа в ее памяти.
Был летний полдень. Солнечно. Плетень между двумя огородами. По одну сторону плетня стояла, опершись подбородком на черенок мотыги, Аграфена Ивановна Угрюмова, по другую — Матрена Дивеевна Штопалиха. Последняя — тоже с мотыгой, но не опиралась на нее, а размахивала ею, грозя:
— Скажи своей дочери, что до добра ее шашни с Авдеем не доведут… Ишь присушила, ведьма! От молодой жены, красавицы-раскрасавицы отбила! У него уж штаны на энтом месте еле держатся. Высосала всю кровь из него, змеюка подколодная!.. Скажи, Аграфена, пристыди. Ить она живет с ним не по закону, а так, прости господи, по-собачьи… А у моей Надёнки на него все права. И бумага ей на то выдана. С гербовой печатью… Скажи, Аграфена, усовести хабалку. Краденая-то любовь хоть и сладка, да под конец горькой полынью оборачивается. Доведет меня до греха — волосы повыдергаю вот этими своими руками… аль в сельсовет Саньке Шпичу заявлю…
— Коротки они у тебя, руки-то, до моих волос, и Шпича твоего не больно боюсь!
Штопалиха ахнула.
Позади нее стояла Федосья Угрюмова. Она только что вернулась с поля и решила проведать материн дом. Заслышав голос Штопалихи, укрылась за ветлой, все спокойно выслушала, а теперь вот объявилась.
С перепугу Штопалиха принялась осенять себя крестным знамением, бормоча:
— Свят, свят! Откудова ее принес нечистый?! — Оправившись чуток, перешла в контратаку: — А ты б не подслушивала чужих-то речей, бесстыдница!
— А ты, старая сводница, поменьше бы шлялась по чужим дворам да огородам. Проваливай сейчас же отсюда! Слышишь?! Это не я, а ты со своей Надёнкой обокрала меня… И не моя вина, коль краденое-то у вас поперек горла встало! Забыла разве, как гуляли свадебку, как приплясывали передо мной в степи, измывались и насмехались, частушки поганые напевали? Забыла?! — Пылающие, темнеющие от гнева глаза Фени приближались к оробевшей старухе и как бы втягивали в себя темной этой глубью.
Штопалиха попятилась, продолжая креститься:
— Пресвятая матерь, оборони! Ведьма, она и есть ведьма!
Оторвавшись от наседавшей и вправду разъяренной, точно тигрица, Фени, Штопалиха поспешно убралась с огорода.
Аграфена Ивановна полными печали и невысказанной боли глазами смотрела на старшую дочь. Феня стояла на прежнем месте, тяжело дыша. Ноздри ее все еще дрожали от непотухшей ярости. С улицы до них еще долетал голос Штопалихи, отчетливо различаемы были ее слова:
— Господи, хотя б холеру на нее какую напустил. Навязалась на нашу шею.
«Запела! Не нравится!» — с мстительной радостью думала Феня, поправляя на голове волосы, будто и вправду побывала в горячей схватке.
А тот, из-за которого вела она эту схватку, проводил возле будки «воспитательную работу» с одним юным пахарем, коего перехватил на дороге, ведущей в село. На полевом стане полюбопытствовал:
— Это куда ж ты, Ванюшка, свои лыжи настрополил?
— В правление, — беспечно и как-то даже весело ответил Ванюшка механику.
— Зачем? — по-прежнему спокойно спросил Авдей.
— Машину хотел попросить у председателя — в район смотаться. Трактор у меня, дядя Авдей, поломался. Запаску надо привезть.
— Какой трактор? — теперь уж построже осведомился механик.
Парень ухмыльнулся:
— Аль не знаешь? ДТ-54.
— Какой, какой? Повтори, пожалуйста!
— Да перестань дурака валять, дядя Авдей! Сам же посадил меня на него аль забыл? Дэтэ, говорю, пятьдесят четыре!
— Пятьдесят четыре лошадиных силы, значит? Так?
— Ну да… — Парень, по-видимому, еще не совсем понимал, к чему бы такой допрос.
Авдей между тем продолжал:
— И ты ничего не слышишь, Ванюшка?
— Не-э-э, — протянул тот, растерянно мигая белесыми, подпаленными солнцем ресницами.
— «Не-э-э», — передразнил его Авдей. — Пятьдесят четыре семьи в Завидове пустил по миру, стон идет на всю губернию, а ему хоть бы что!
— О чем вы, дядя Авдей? Какой стон, какая губерния? — Ванюшка испуганно разглядывал своего механика, не свихнулся ли тот, не сошел ли с катушек, не сорвалась ли резьба у мозговых его шестеренок. — О чем это вы? — повторил он громко.
— О чем?.. Не дошло, значит? А ты подумай-ка хорошенько! Представляешь, дурья твоя голова, что бы было, если б в прежнее время в нашем Завидове сразу вот так пали пятьдесят четыре лошади, в разгар зяблевой вспашки?.. Соображаешь?
— Сейчас не прежнее время.
— Ишь ты какой грамотей! «Не прежнее»! Без тебя знаю, что не прежнее — тогда бы ты и сам взвыл по-щенячьи… Технику-то надо беречь, как ты думаешь?
Колхоз ее теперь на собственные денежки купил, а оп у нас еще не миллионер, колхоз. Что же ты на меня уставился, как сыч, и молчишь?.. Ну, ну, поезжай, да только помни, что я тебе сказал. Дуй!
— Спасибо, дядя Авдей!
— Это за что же?