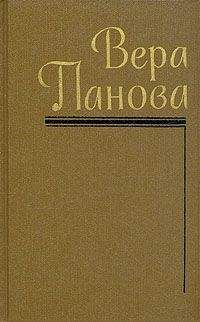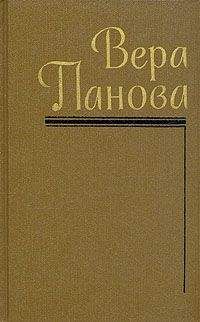В сером свертке оказалась застиранная женская рубаха, обрывок байкового одеяла и грубый холщовый свивальник. Все это Евдокия вышвырнула в сени. На пол упала бумажка, Евдокия подняла ее. «Крещен Александром», — было написано на бумажке. Евдокия подумала: хорошее имя Александр, можно кликать Шурой, Сашей, Саней, как понравится, а то еще Аликом.
Пришел Евдоким. Усталый и чем-то недовольный, он долго мылся под висячим рукомойником, и Евдокия заробела — вдруг он не захочет принять ребенка? Сменив одежду, он молча уселся к столу, а она, подавая ужин, все думала, как ему половчее сказать.
— Что собрание-то нынче так затянулось? — спросила она, чтобы начать разговор. Он ответил нехотя:
— Судили одного. Из заводского материала утварь делал, продавал в свой карман.
— Кто ж судил?
— Мы и судили. Собрание.
— Собрание?.. — переспросила она задумчиво, думая о своем. Погодя, повела речь напрямик:
— Без света в спальне не будь, на кровать, не осмотревшись, не бухайся, не ровен час — придавишь дитя.
— Какое дитя?
— Мальчика бог послал.
Он кончил ужинать и пошел в спальню; она — за ним. Он зажег свет, откинул одеяло, посмотрел на спокойное розовое личико:
— Это чей же?
Она ответила храбро:
— Считай, что наш.
Ребенок спал, посасывая губами.
— Подкинули, что ли?
— Подкинули. Это счастье для дома, — вспомнила она и заторопилась. — На подкидыша господь пошлет!
От яркого света ребенок затревожился, завертел головкой, стал выпрастывать кулачки из пеленки.
Евдоким засмеялся:
— Мальчик, говоришь?
— Александром зовут.
— Почем знаешь?
— Записка была вложена.
Он сел на кровать и стал разуваться.
— Вот те раз! — сказал он весело, глядя на важного младенца. — А я где лягу?
— Ложись к стенке, а я с ним с краю.
— А вдруг задавлю ночью? — осторожно укладываясь под необъятное одеяло, сказал Евдоким уже не шутя. — Придется люльку ему сработать, а то на самом деле опасно, кости-то у него мягкие…
Приходили соседки поглядеть, что за прибыль у Чернышевых. Хвалили ребенка, хвалили Чернышевых, ругали беспутных матерей, которые ночью на снегу, у чужого порога, кидают безвинных младенцев…
Пришла и Марьюшка. Вошла чинно, без суеты. Негромко, но требовательно опросила притихших Павла, Катю и Наталью — хорошо ли учатся, слушаются ли названых родителей и зачем дома ходят в башмаках: дома тепло, башмаки поберечь не грех, у названых родителей расходов, поди, страсть на такую ораву. Потом начальственно, как доктор, Марьюшка приказала показать младенца.
Евдокия поднесла Сашеньку, спеленатого, в чепчике с кружевцем. Марьюшка вздохнула:
— Не жилец.
Евдокия испугалась:
— Ну, почему?
— В глазок посмотри ему, — шепнула Марьюшка.
Евдокия посмотрела в голубенький бессмысленный глаз и увидела в зрачке свое лицо, а больше ничего.
— В уголок, — шептала Марьюшка. — Который живуч человек, у того в уголку ровно пупочка сидит внутри, видна ясно. У богоданного твоего младенчика пупочки не видать. Жить не будет.
Приведя всех в уныние и угостившись пенным квасом с изюмом, Марьюшка удалилась.
На другой день у Саши заболел живот. Евдокия дала ему касторки, припарки ставила — не помогло. Пришлось понести Сашу в консультацию.
— Вы, мамаша, перекормили ребенка! — гневно сказала черная докторица в белом халате. — Мы дадим ему режим!
Она приказала кормить Сашу через четыре часа, ночью вовсе ничего не давать, молоко разводить рисовым отваром. Евдокия не смела ослушаться докторицы, но душа у нее изболелась, потому что Сашенька просил есть каждый час и, ничего не получая, кричал: «Эге! эге!» — пока не засыпал от изнеможения.
«Небось, твое было бы, не морила б его режимом, — думала Евдокия про докторицу. — Этак от голода протянет ноги дитя».
Но дитя не протянуло ноги, привыкло к режиму и стало спокойно спать по ночам. Это было в марте, а в апреле Павел подхватил в школе коклюш, от него заразились все дети в доме, и Саша в том числе. Старшие болели легко, а Саша так задыхался, что Евдокия при каждом приступе кашля с ужасом ждала — вот сейчас умрет. Она подолгу смотрела в Сашины глаза; но не находила той пупочки, которая дает живучесть человеку. Кончился коклюш — Катя и Саша заболели корью.
— Это так не пройдет, — сказал Евдоким, глядя на пылающего в жару ребенка. — Не может такая кроха столько перенести. Ждать, видно, горя, Дуня.
Он протянул свою большую руку и бережно пригладил ее волосы. Третий месяц она не отходила от ребенка, похудела и перестала улыбаться.
— Не хочу я этого горя, Евдоким, — сказала она новым каким-то голосом, какого он у нее не слыхал. — Вот не хочу и не хочу!
Ей казалось, что если Саша умрет, то в ее жизни уже никогда не будет радости.
Он болел всю весну и половину лета. У него была ветрянка, прорезывались зубы. Тихий и ослабевший, он лежал во дворе под навесом, который поставил для него Евдоким. Катя, Павел и Наталья по очереди подсаживались к нему, отгоняя мух и комаров. Особенно Катя его полюбила — приносила ему в кроватку свои игрушки, разговаривала с ним:
— А каков наш Сашенька! Умник наш Сашенька! Красавец наш Сашенька!
И, глядя в лицо девочки грустными глазами, слабо, нараспев поддакивал Сашенька:
— А-а-а!
Евдокия, хлопоча в доме, то и дело через окно посматривала на Сашеньку. Однажды, выглянув, она увидела, что возле Сашиной кроватки стоит чужая женщина и разговаривает с Катей. Евдокия услышала, как женщина сказала:
— Да нет, помрет. Плохой он у вас вовсе.
Евдокия вышла во двор и спросила женщину:
— Ты что ходишь, каркаешь? Твое какое дело тут?
— Мое дело десятое, — отвечала женщина.
— То-то и оно. Мне дитя сглазили, а теперь еще ходят, каркают, — сказала Евдокия чуть не плача. — С богом давай!
Женщина усмехнулась и пошла к воротам. Была она молода и собой недурна, только толстовата излишне и в лице нездоровая припухлость. Светлые стриженые волосы завиты мелкими колечками. На толстых ногах — разношенные туфли с кривыми каблуками…
К концу лета внезапно приехал Ахмет.
Несколько раз он прошел мимо Чернышевского дома. Никто не окликнул его. Он заглянул в ворота — двор был полон детей. Девочка и мальчик копали картошку, другая девочка читала книгу, помахивая веткой над колыбелью, в которой лежал, ворковал младенец. Ахмет тихо свистнул и ушел, а на другое утро к Евдокии явилась Марьюшка:
— Ну что, Саша твой как?
— Слава богу, хорошо, — ответила Евдокия с задором. Она сидела и кормила Сашу киселем. У обоих лица были веселые.
— Закопалась ты, молодуха, в чужих детях, — посочувствовала Марьюшка. — А веку-то нам, красавица, дадено скупо.
Подбирая ложкой с Сашиного подбородка струйки киселя, Евдокия сказала нараспев, забавно:
— И какие мы такие молодухи, и какие красавицы? Наше дело старое.
— А-а-а! — отвечал Сашенька.
— Скоро будем дочек замуж выдавать, сыновей женить…
— А-а-а! — соглашался Сашенька.
— Ахмет приехал, — сухо сказала Марьюшка и для деликатности поглядела на потолок, а потом уже на Евдокию.
Евдокия докормила Сашеньку, утерла его мокрым полотенцем, поцеловала и сказала:
— Видала я его. Ходил мимо окон.
Марьюшка пожевала губами:
— Привалило ему счастье в Кунгуре — поступил в кооперацию закупщиком, большое жалованье получает, разбогател. Подарки тебе привез — шаль одну толстую, другую тонкую, с персидским узором; два отреза кашемировых, бордовый и темно-синий. Страдаю, говорит, не могу, говорит, забыть, хоть мало не убил меня Евдоким.
— Так вот мы еще какие! — сказала Евдокия, обращаясь к Сашеньке. — Нам еще подарки сулят, для нас из Кунгура приезжают! А мы им скажем, — продолжала она, похлопывая Сашенькиными ручками и балуясь, — а мы им скажем: поезжайте-ка назад в Кунгур с вашими персидскими узорами…
Все-таки Ахмет повстречался Евдокии на пути, когда она шла по воду. Загородил ей дорогу, маленькой жесткой рукой стиснул ее запястье:
— Что, Дуня? Что ты вздумала? Гонишь меня? Плохой стал Ахмет?
Щурясь от солнца, она спокойно, с улыбкой смотрела на него:
— Зачем плохой? Может, еще лучше, чем бывал. Да мне не надобен.
— Не надобен? — переспросил он с обидой и недоверием. И крепче сжал ее запястье смуглыми пальцами.
— Оставь руку, — сказала Евдокия и так поглядела, что его пальцы сами разжались, — равнодушно поглядела, издалека, как чужая.
— Дуня, жалко, — сказал он. — Хорошая была наша любовь.
— Семейная я стала. Дети у меня.
— Чужие дети! — сказал он и осекся, взглянув в ее лицо.
— Кто виноват-то, что чужие? — сказала она и пошла от него прочь, помахивая ведрами.