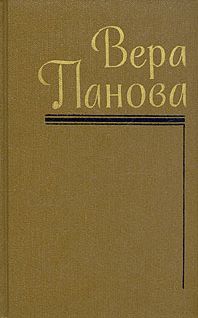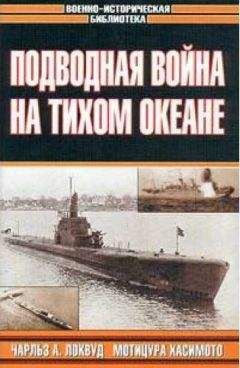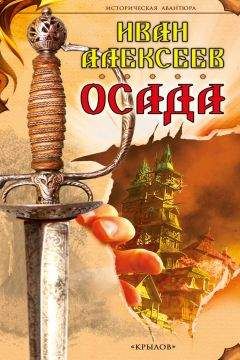И вот эта кухня с чистым глиняным полом, с белоснежными стенами, с чистенькой кадушкой для воды - кухня домовитой Марии Владиславовны.
Свекровь моя, Мария Петровна, стоит у плиты. Словно не веря своим глазам, она говорит:
- Вера!..
Мальчики, Боря и Юра, вбегают в кухню из комнат. Они выросли и уже не так хороши собой, как прежде, но что это значит для меня?
Я нашла моих мальчиков здоровыми, спасибо бабкам. Узнала, что они по-прежнему играют в шахматы, катаются на саночках, а читают теперь сами.
Это был мой первый взгляд на мир, до которого я добралась. Второй взгляд был более широким.
Неподалеку от дома, где мы жили, стоял обугленный дом полицейского. Рассказывали, что этот негодяй выдал немцам партизан, ушедших от оккупантов в лес. И за это-де партизаны сожгли дом предателя. Очень страшно, говорили, горел этот дом: несколько дней-де горел и не сгорал, пока, наконец, не рухнул грудой самоварных углей. А во главе тех партизан, рассказывали, стоял Куприян Тутка, бывший секретарь райкома партии.
Женщины, на вид скромные и боязливые, пешком шли в Харьков якобы что-нибудь продать или купить на базаре и потом приносили в Шишаки советские газеты, пряча их в лифчике. И одна из этих женщин, ловко стирая в корыте цветастый бумазейный халатик, говорила:
- О, ненавижу! Пусть только придут наши, своими руками этих проклятых буду убивать!
Жили мы скудно, пищи не хватало, одно время Боря до того ослабел, что по утрам еле мог подняться с постели. Надо было немедленно выходить из этого положения, надо было работать и самой зарабатывать на себя и свою семью.
Мы с Наташей стали работать в бывшем колхозе "Ставидло", который теперь назывался общественным двором.
С непривычки нам было трудно, особенно когда приходилось поднимать мешки по сорок - пятьдесят килограммов. Но мы старались не отстать от женщин ни на прополке, ни на других работах, и они относились к нам хорошо. Даже делились едой, если видели, что у нас к обеду ничего нет, кроме хлеба.
В феврале 1943 года, то есть после поражения немцев под Сталинградом, пошли слухи о дальнейших победах нашей армии и о том, что скоро немцы от нас будут тикать. Но бои шли еще далеко от нас, и в поведении шишакских властей ничто не указывало на близкие перемены. Однако слух держался так упорно, что все в него уверовали. Вере этой способствовали два обстоятельства.
Во-первых, в Шишаках появились итальянские солдаты, бежавшие из-под Сталинграда. На базаре возникла вдруг неимоверно тощая фигура в лохмотьях военной одежды, в драной шапке, напяленной на уши, с черной щетиной на лице. Фигура пошла между столами со снедью, приговаривая два слова: "Итальяно" и "Сталинград". Фигура хромала и выглядела очень жалкой, и из-за столов потянулись женские руки с кусками хлеба. Итальянец благодарил по-французски: "Мерси". Женщины понимали это слово. Иные из них отвечали сурово: "Не ходить бы тебе на нас, теперь не побирался бы". Но большинство не осуждало, должно быть понимая, что не по своей воле шел на нас этот солдат.
Второе, что подтверждало слухи о скором уходе немцев, была статья, напечатанная в одной из украинских газет, не то в полтавской, не то в миргородской. В статье приводилось высказывание Геббельса по поводу Сталинградской эпопеи. Геббельс говорил о том, что в войне возможны всякие случайности и что немецкое командование недостаточно учло громадность советского военного потенциала. Точного текста не помню, но смысл был именно такой, весьма обнадеживающий.
И наконец, в одно мартовское утро мы, встав от сна, узнали, что ночью немцы укатили из Шишак.
В голове и душе замелькали планы будущего. Я начала писать пьесу "Метелица". Набросала кусочек и листочки спрятала в поленницу, стоявшую в сенях.
Все это действо составляло для меня уже как бы частицу будущего.
В радостных мечтах легли спать. И вдруг раздался громкий стук в дверь. Такие грозные, глухие удары. Сердцу стало холодно. Кто это? Немцы, полиция? В соседней комнатушке спали дети, спала Наташа.
- Кто там? - спросила я, выйдя в сени.
В ответ: "Откройте", - и брань. Голоса не немецкие - очевидно, полицаи.
- Не открою! - сказала я, решив, что если это гибель, то зачем же ее впускать в дом собственными руками.
- Ты с ума сошла! - ухватилась за меня мама. - Я им отворю.
- Не смей! - сказала я.
Голоса из-за двери закричали:
- Отвори, хозяйка, нам только водицы напиться!
- Не отворю! - сказала я.
Тогда они стали бить чем-то тяжелым сперва в дверь, потом в стену дома. Но стена была подперта изнутри поленницей, ее нельзя было свалить ударами прикладов. Мы с мамой ждали, затаив дыхание. Наконец за дверью послышался топот сапог, потом звякнула щеколда на калитке - они ушли.
Так я и не знаю, кто ломился к нам в ту ночь, затерявшиеся ли в селе немцы или украинские полицаи.
Странные были тогда дни, жуткие и в то же время полные надежды. В селе было безвластье - ни немцев, ни наших войск.
И все мы выходили на улицу слушать, не гремят ли выстрелы. В воздухе погромыхивало явственно, но мы опять выходили послушать, не приблизилось ли громыханье.
Оно не приближалось. Оно, увы, отдалялось. Оно отдалилось совсем. Сладкий сон уходил, смывался. В Шишаках опять появились немцы. Чем был вызван их временный уход? Никто не знал, откуда было узнать? Но для всех их возвращение было жестоким разочарованием.
Однажды ночью в сентябре я проснулась от скрипа колес и ржанья лошадей. По улице мимо нашего дома ехали телеги, вереница телег. Я вышла к калитке.
Непроглядно черная была ночь, но еще чернее этой черноты были лошади и поклажи на проезжающих по улицам подводах.
Ржали лошади. Плакали дети. Кашлял кто-то.
Стоя у калитки, я закурила и увидела напротив, по ту сторону улицы, попыхивающие глазки папирос. Там, на крылечках, тоже стояли, курили, смотрели.
Я не подошла к подводам, не спросила, кто едет, куда, зачем; я поняла.
Утром соседи рассказывали, что из Опошни немцы выгнали всех жителей.
- Всем надо уходить, - говорили соседи. - Либо в кукурузу, либо в лес.
А в полдень ко мне зашла соседка и выработала для меня программу действий.
- В кукурузу прятаться опасно, - сказала она, - лучше в лесу. Я за вами зайду, когда смеркнется, мы тоже идем в лес.
Она сдержала обещание, зашла за нами часов в девять вечера. Мы были уже готовы и пошли сразу же.
Фантастичен был путь через уснувшее, с погасшими окнами село, потом по тихой дороге, потом по лесу. Очень хотелось пить, мы скоро выпили воду, взятую с собой, и пили из лужиц, стоявших в колеях дороги. Наутро разглядели, что вода эта была голубовато-молочного цвета, вкус ее, впрочем, был хорош.
Вслед за соседкой и ее мужем мы углубились в лес. Уже светало. Было прохладно и шелестно. В том месте, куда нас привели, было много людей, одни сидели на небольшой скирде сена, другие прямо на земле, мужчины, женщины, дети, между деревьями виднелись силуэты коровы и лошади.
Утро разгоралось, захотелось есть. Мы сделали шатер, воткнув в землю несколько веток и натянув на них одеяло, все то же коричневое байковое одеяло, которое я принесла из Пушкина. Когда я усадила маму в этот шатер, то ясно представила себе, что у меня для нее нет никакого другого жилья и неизвестно - будет ли. Я послала мальчиков за топливом, а сама расстелила перед мамой полотенце и достала из кошелки наши съестные припасы. Самое ценное из них были подсолнечное масло, сухари. Мальчики принесли сухого валежника и развели костер. Мы поели, я закурила. Уж не помню, что я курила в том лесу, - кажется, кто-то со мной поделился своим самосадом. Среди находившихся там людей немало было знакомых, и уже на вторую ночь Наташа пела с ними советские песни. Было ново и чудесно, что теперь можно, не таясь, петь и про Катюшу, и про любимый город, и про все, что мы любили.
Ровно неделю мы провели в лесу - с 15 по 22 сентября. Иногда шел дождь, и наш шатер промокал насквозь, но нас это не пугало. Как-то раз раздался в лесу собачий лай и прошел слух, будто это немцы с помощью собак разыскивают беглецов, но все обошлось благополучно. По привычке мы с Наташей припадали к земле и слушали, не гремит ли. Земля не гремела.
Мальчики приносили топливо и воду и были очень довольны всем этим приключением. Но, увы, наши запасы съестного очень скоро иссякли, надо было хоть чего-нибудь раздобыть.
Мы с Юрочкой взяли кошелку и отправились на добычу. В лесу видели множество беглецов, некоторых с коровами. Видели, как между деревьями бегал явно встревоженный полицай с жовто-блакитной повязкой выше локтя. У выхода из леса увидели ту самую соседку и ее мужа. Муж сидел на пне, а около него стояли два немца и что-то ему говорили. Поодаль стояла корова. Соседка была бледна и не сводила глаз с немцев. Вдруг она как бы что-то поняла, подошла к немцу, взяла из его руки походный котелок, подошла к корове и принялась ее доить.