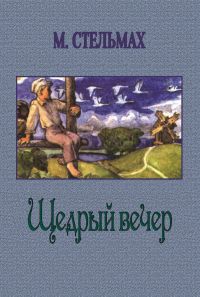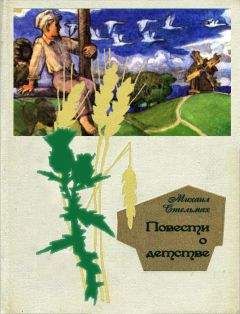— А что врачи говорят?
— Глупое говорят. Сговорились себе и уцепились в дедову старость. Им бы хотелось на печь упаковать мои лета. А какая же это старость, когда имею лишь семьдесят пять лет? Моя мать до девяносто четырех жала. Что–то мельчает теперь и наш век, и здоровье. Все очень нервенными становятся, и все жизнь чью–то не ценят, и все бомбами замахиваются на нее. А бомба человека лучшим не сделает.
— И вы же, деда, бомбы возили, — что–то вспомнив, засмеялся отец.
— Так вот же и выдыхаю эти бомбы теперь, — уже и серп выпадает из руки.
— Деда, вы на самом деле были на войне? — обрадовался я и уши развесил, надеясь услышать что–то интересное.
— Да нет, это меня впихнули в войну, — неохотно ответил старик и начал ложкой мешать кулеш. — Пшено уже разомлело.
— Деда, расскажите, как вас впихнули в войну, — просил мой голос.
— Нет там чего рассказывать, незачем и слушать, — насупился, наерошил те брови, которых бы хватило на двух дедов. — Вон лучше беги к телеге, найди ваганы[12] и ложки в полотне, и подумаем, что делать с кулешом.
— Мы уже ужинали, деда.
— Беги, беги. Мой кулеш сам Котовский так ел, что аж за ушами трещало, еще и нахваливал.
— Ой! В самом деле сам Котовский ел? — замираю, как завороженный. — Так вы его видели?
— Даже фотографию с нас обоих делали.
— Расскажите, деда!
— А что тебе дед сказал? Вижу, и ты непослушным уродился.
Я сразу же побежал к телеге, возле которой спокойно жевали жвачку круторогие волы, нашел ваганы, ложки, а в глазах мне все стояло, как дед и кулеш ел, и фотографировался аж с самим Котовским. Чем же так прославился дедушка? Видать, недаром у него рубцеватая рука.
А кулеш у деда и в самом деле был такой вкусный, что его и Котовский мог нахваливать. Мы тоже хвалили казацкое блюдо, и старик был этим очень доволен.
— Деда, а Григорий Иванович тоже деревянной или какой ложкой ел кулеш?
— Деревянной, только чуть больше твоей, — заговорщически улыбнулся старик и потянул меня за волосы. — Все, Пшеничный, хочется знать?
— Ой, хочется! Это же так интересно!
— Расскажите ему, деда, немного о себе, потому что он теперь и мне покоя не даст: хоть оно малое, а как репей. — Отец берет котелок и собирается пойти с ним к речке. — Вас же и в газете печатали.
— Да печатали, и не самого, а с волами.
— С волами?! — аж подскакиваю я.
— С теми самыми, что сейчас возле телеги туман выдыхают. Вон видишь, сколько надышали его?
В самом деле, возле телеги и на долине прорастал туман. Если бы я меньшим был, то, наверное, поверил бы, что его надышали волы. И кто только из взрослых не подсмеивается над нами. Вот и сейчас… Я уже и надежду потерял, что дед Корней что–то расскажет, но теперь он, косясь на меня, сам спросил:
— Так что тебе рассказать? Может, сказочку про серого бычка?
— Э, нет, про серого бычка я еще в колыбели слышал.
— Так долго в колыбели вылеживался? Тогда, может, о деде, бабе и курочке рябой?
— Вот расскажите, как воевали.
Дед Корней грустно покачал головой.
— Это все людская молва, что я воевал. Вот сын мой и воевал, и в партизанах верховодил. Так что не было покоя ему, не было и мне. Его ловили, а меня таскали то по сборищам, то по тюрьмам. Там, под чужими дулами, и седина моя созрела. А вот когда стояли у нас деникинцы, присылает он ко мне посланца из лесу. Снял тот посланец шапку, выпорол из нее грамоту и подает мне. Просит сын, чтобы я спасал отряд — привез в леса запрятанное оружие.
«Как же его через деникинцев переправить? — спрашиваю у посланца. — Может, голубями?»
А тот, рыжий черт, только улыбается:
«Да нет — волами».
«Волами? А как?»
«У вас, деда, в амбаре лежит гроб?»
«Да лежит, засыпал его рожью».
«Для чего же это?»
«Для того, чтобы мне рожь и на этом, и на том свете пахла».
«Так мы, деда, положим в гроб оружие и поедем себе, посвистывая».
Ему еще тогда о свисте думалось… И где ты, думаешь, лежалое партизанское оружие? На кладбище, в мраморном склепе нашего барина. Вредный был барин, вот ему люди и после смерти не дали покоя. Ночью вынесли мы оружие — бомбы и патроны к ружьям, осторожненько положили в гроб и тихо поехали из села. Я иду возле волов, а тот рыжий одчайдух[13] сзади меня голову гнет в кручине, шапкой глаза вытирает, будто и в самом деле кого–то похоронил. Выехали мы за село, я уже перекреститься хотел, когда здесь налетает конный разъезд.
«Что везешь, дед?!»
Стою на дороге, молчу, — как–то язык не поворачивается врать. Когда слышу сзади всхлипывания. Оглядываюсь, стоит мой рыжий бес и плачет такими искренними слезами, что даже разъезд подобрел. Так мы и проехали мимо него. Тогда я и спрашиваю посланца:
«Как же ты, бессовестный, так сумел чистые слезы распустить?»
«А у меня глаза от природы на мокром месте, — отвечает он и смеется. — Бывало, мама еще не успеет замахнуться на меня рукой, а я как заголошу, так вся улица сбегается».
«Чего же ты, плакса, в партизаны пошел?»
А он отвечает:
«Потому что я люблю, когда солнце собирает росу, но не люблю, когда земля собирает слезы. Вот как, деда!»
Сказал это и сразу стал в моих глазах не балагуром, а человеком.
«Как же тебя звать?» — спрашиваю.
«Себастьяном».
— Ой! Это не дядька Себастьян из нашего села?! — аж вскрикнул я.
— Да он же! — ответил дед Корней.
— Жизнь… — сказал отец, и, кажется, я впервые начал понимать, как много кроется за этим словом…
— Привезли мы то оружие хорошенько в лес. Вот радости было! Поднимали меня партизаны на «ура» и все, что в дедовой сумке лежало, поели: голодные были — страх! Поговорил я с сыном немного, простился и снова домой собираюсь.
«Вы же, отец, гроб выбросьте», — говорит он мне, прощаясь.
«А ты его делал, чтобы я выбрасывал?»
«Хоть и не делал, но подумайте, кто вас будет встречать».
«Я его лучше где–то спрячу, чтобы никакой леший не нашел».
Так и поехал помаленьку. Думал себе, гадал — и пожалел гроб бросать. Въехал в село другой дорогой, и все. Подъезжаю к селу другой дорогой, а на меня от крайних домов вылетает двое всадников. Я только увидел, как сверкнули сабли, как раскололось солнце по ним, и закрыл голову руками. А что уже дальше было, про то люди рассказывали. Порубленного вбросили меня деникинцы в гроб, еще и крышкой накрыли. Вот волы и привезли меня самого домой. Я не слышал, как надо мною голосила старуха, как обмотали меня, словно куклу, в полотно, только услышал через некоторое время, что пришли ко мне ангелы и начали петь такой жалобной, как архиерейская певчая в соборе. Так это еще не хуже, — думаю себе, — значит, в рай душа идет, — и раскрываю глаза.
А в моем доме и за столом, и на скамейках, и на пороге, и на шестке сидит раскрасневшаяся родня и жалостно выводит:
Та забіліли сніги,
Забіліли білі,
Ще й дібровонька,
Та заболіло тіло,
Бурлацькеє біле,
Ще й головонька…
«Бессовестные, — говорю им потихоньку. — Я ж думал, что мне ангелы поют, а это вы, трясца вашей матери, уже и напиться на дармовщину успели».
И думаете, усовестил их? Одна только старуха заплакала, а все, как безумные, начали хохотать, радоваться и даже рюмку подняли, и закуску тоже.
— И вы тогда выпили, деда? — засмеялся отец.
— А что должен был делать? Выпил, но не закусывал и попросил, чтобы вынесли в сад. Положили меня под грушей, накрыли двумя кожухами, и начал я вылеживаться, как барин или гнилушка, ибо раньше не имел времени на сон… И все было бы ничего, если бы костоправы лучше руку собрали — выпадает из нее серп, хоть что ни делай.
— Деда, а как ваш сын теперь поживает?
— Да поживает: в Харькове в начальстве ходит, телеграммы деду бьет, а в село редко заглядывает. Вот и теперь написал, чтобы приехал к нему.
— Поедете?
— Да наверное, как обсеюсь, поеду. Внука же имею там, невестку. Людей лечит она, может, и мою десницу заново перешьет, а то ведь что это за хлебороб, если так рано имеет разлуку с серпом. Старуха уже обгоняет — больше меня жнет, еще и хитрит.
— Как это она хитрит у вас? — недоверчиво засмеялся отец.
— Знает мою гордость, так украдкой свои снопы на мою полоску переносит. Разве же это дело? — и старик пошевелил поседевший костер.
Из него посыпались искры, их стало много–много — и в глазах, и вокруг дедовой телеги, и по всей долинке, и почему–то небо приблизилось к земле. Потом кто–то подхватил меня на руки и начал качать, как в колыбели, а передо мной появились волы деда Корнея, они напускали на долину туман, а в нем отзывался перепел: «Спать пойдем, спать пойдем…»
Еще солнце только–только подняло свой венец, еще сизо и сине туманились росы, когда меня разбудил отец.