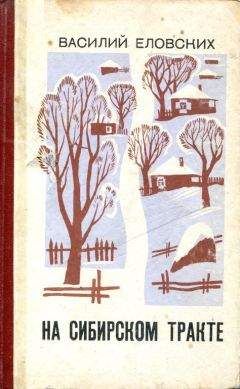— Чего ты, как неживой? — сказала Татьяна Михайловна сыну. — И давай собирайсь на собрание.
— Будешь неживой, — мрачно отозвался Санька. — Я ведь сегодня с четырех на ногах. Ишачишь, как проклятый.
— Давай собирайся.
— Не пойду никуда. Спать вот сейчас буду.
— То есть как это? Что тебе, ночи мало? Не пойдет он никуда. Еще недоставало, чтобы люди о тебе черт знает что говорили. Ты мне эти штучки брось. Одевайся без разговоров!
Дома Татьяна Михайловна была грубой, властной и вообще какой-то другой.
Отложив бредень, старуха начала подтирать возле курятника. Поправляя корытце с кормом, проговорила как бы про себя:
— Уж все пожрали, окаянные. Тока и корми их, тока и наваливай, а как начнешь яички продавать, так дорого, вишь ли, чуть не задарма хотят.
Ясно, что она прекрасно помнила разговор с Нонной.
Над печью в два ряда висели валенки, большие и маленькие, черные, серые и белые, штук двадцать, не меньше. Зачем столько? И для кого маленькие? У окна напротив печи длиннющие связки лука, килограммов пятьдесят будет. Куда им столько? И везде сундуки, сундуки.
«Жадины, — сердито подумала Нонна. — Чертовы жадины».
Сейчас она была уверена, что и озабоченность у Татьяны Михайловны ни отчего другого, а от жадности. Нонна даже покраснела, вспомнив, как все эти дни, подражая Камышенко, тоже старалась быть не только деловитой, но и озабоченной.
— Летом приедешь, рыбкой накормим. — Татьяна Михайловна кивнула на бредень.
По пути в клуб она спросила у Нонны:
— Ну как, поглянулось село?
— Да, село хорошее.
— То-то! А учительница как? — Татьяна Михайловна снисходительно улыбнулась. — Ну, что ж не говоришь?
— Да, видите ли…
— Ну, говори, говори.
— И без того хотела поговорить. Не нравится мне, что вы, Татьяна Михайловна, слишком уж, знаете ли… как бы это сказать-то… обогащением увлекаетесь, стяжательством.
— Чего? Стя… Обогащеньем? А чё ж бы ты хотела, чтобы я супишко пустой лаптями хлебала. А?!
— Лаптями хлебать вы при любых условиях не будете. Но… Эти яйца по два с полтиной десяток. Мясо возите в город, чтобы как можно подороже продать. На спекуляцию какую-то смахивает. И вообще…
— Что вообще? Что вообще? — Камышенко уже не могла себя сдерживать, она быстро выкрикивала, и голос ее при этом дрожал. — На спекуляцию смахивает. Ишь ты! Может, я чужим добром торгую? Да знаешь ли ты, что я и сплю-то не больше пяти часов? Роблю за пятерых. Как у тя язык-то повернулся говорить такое. Ты уж не шпионить ли за мной приехала? Ах, учиться приехала! Тогда, может, мне у тебя поучиться? Тока чему? Все вы бездельники голоштанные за слова прячетесь. Только когда жрете, поторапливаетесь.
Санька шел за матерью и покашливал. Нонна пыталась сказать, что она вовсе не хотела обидеть ее, но Татьяна Михайловна, не слушая, продолжала сердито выкрикивать. Уже совсем рядом был клуб, возле которого курили мужики и парни дурили с девками. Скандалить было неудобно.
— Подождите, Татьяна Михайловна…
— А ну тя к лешему! — Камышенко прибавила ходу и забежала в клуб.
Нонна только подивилась: «Сколько же злобы в ней».
В клуб съехались животноводы всех четырнадцати сел и деревень совхоза, много было всякого совхозного и районного начальства. Стоял вопрос «О зимовке скота и повышении его продуктивности». Татьяну Михайловну избрали в президиум, и она сидела рядом с каким-то лысым районным начальником, злая, встревоженная. Казалось, что она вот-вот вскочит, побежит куда-то или крикнет что-то на весь зал.
Люди в зале все время переговаривались, стояло сплошное «гу-гу-гу». Выступали же не ахти как охотно. Под конец, уже слегка охрипнув от беспрерывных «Кто еще желает?», «Просьба потише…», председательствующий — главный зоотехник совхоза — начал «силком» вытаскивать на трибуну:
— Беседин, вам слово. Расскажите, как у вас идут дела в Комаровке? Почему допустили такой падеж скота? Объясните нам, как вы дошли до жизни такой.
Он вызвал человека два-три и вдруг объявил:
— Теперь попросим выступить нашу гостью…
Председательствующий назвал Ноннину фамилию и сказал, зачем она приехала в Боровской совхоз.
— Не хотит она, — заорал кто-то над ухом Нонны, — физии ваши ей не шибко глянутся.
— А уж у самой-то… ночью шарахнуться с испугу можно, — захохотали парни у выходной двери. — Чичас мы ее на руках на трибуну заташшим.
Нонну рассердили выкрики, и она торопливо зашагала к трибуне, постукивая каблучками. Нонна всегда страшилась выступать, и сейчас начала говорить натужно, с трудом переводя дыхание. Ей казалось, что бабы в зале шепчутся о ней, парни похохатывают тоже над нею. Захотелось сказать что-то дерзкое. И она чуть было не сделала этого, но вовремя одумалась и начала с того, что в Боровском совхозе ей в общем-то понравилось. Совхоз, чувствуется, крепко стоит на ногах. И народ вроде бы хороший. Правда, народ, он везде хороший. Но есть и несознательные личности. К ним относятся и те вон, которые у двери. Которые без конца похохатывают и мешают проводить собрание. На работе у них тоже, наверное, одни только хиханьки да хахоньки. А совхоз что, совхоз очень мощный. Дома новые, красивые, и клуб тоже куда с добром. Техники всякой много в совхозе. Если говорить о механической дойке, то она организована прямо-таки здорово. Так это ловко все, культурненько, чистенько. И доярки со своей техникой, можно сказать, похожи на фабричных работниц.
Парни у двери стали что-то выкрикивать. Нонна, чувствуя, что голос ее вот-вот предательски задрожит, попыталась справиться с собою. Но, видимо, лучше было не думать об этом, потому что легкая, отвратительная дрожь в голосе стала появляться. Повернувшись к президиуму, Нонна уловила неприязненный, насмешливый взгляд Татьяны Михайловны и заговорила резко и громче.
— Жаль только, что опыт лучших доярок у вас распространяют слабо. Точнее сказать, совсем не распространяют. Каждая доярка сама по себе, как у кого выйдет. А маяки у вас есть! Вот хотя бы Татьяна Михайловна Камышенко. Вы все ее знаете. Это работящая женщина. Очень работящая. Ну, исключительно работящая. Я просто преклоняюсь перед нею. Почему бы не поучиться у нее отстающим дояркам. И организовать учебу так это… в широком масштабе. Я вот без похвальбы скажу — к отстающим, слава богу, не отношусь, но у Татьяны Михайловны научилась много чему. Очень многому научилась. Спасибо ей! Я имею в виду, конечно, учебу на ферме. А то ведь Татьяна Михайловна может поучить и тому, как обогащаться за счет своего личного хозяйства, и как торговлишкой заниматься и всякой… такой штуковиной.
В зале стало тихо, кто-то закивал, кто-то ухмыльнулся, старуха с заднего ряда сказала:
— Своим ить горбом наживат.
Ей ответили дружным хохотом.
— Здо́рово работает на ферме Татьяна Михайловна, — продолжала Нонна, — что говорить. Надои у ней такие, каких в совхозе и не видывали. Но опять же хочется спросить: почему-то только у одной у Камышенко племенные коровы? Почему только ей создают здесь лучшие условия. А?!
Зал гудел. Кто-то из мужчин выкрикнул:
— Верно!
Камышенко, уставившись в одну точку, нервно скоблила пальцем скатерть.
— Тихо! — сказал мужчина, сидящий за столом президиума, кажется, секретарь парткома совхоза. — Вопрос поднимается правильно. Продолжайте, продолжайте.
Но трибуна уже была пуста, Нонна шла на свое место, а люди в зале громко говорили, даже кричали, и, как казалось Нонне, в большинстве своем одобряли ее выступление.
Ночью она уехала домой. И пока качалась в поезде, потом в автобусе, пока говорила в школе с мужем и дожидалась в приемной своего директора Калачева, у нее было отвратительнейшее настроение, как будто бы она предала Татьяну Михайловну, хотя Нонна понимала, что вовсе это не так. Разве могла она промолчать?
Года два назад довелось мне побывать в деревне Верхние Бугры, расположенной в низовьях Иртыша. Я читал там лекцию. Быстроногая райкомовская лошаденка с трудом провезла меня по сорокакилометровой проселочной дороге, переметенной снегом, и я измерзнул донельзя. Правда, было градусов под двадцать, не больше, но ядреный ветерок так пробирал, что еще в начале пути мне нестерпимо захотелось забежать в первый попавшийся дом, завалиться на печку и не слезать с нее ни за какие коврижки.
В кабинете председателя колхоза была теплынь, я обогрелся и с какой-то непонятной радостью глядел в окошко на безлюдную улочку. Рядом со мной стоял, болтал без умолку и все вихлялся отчего-то немолодой колхозник Назаров Фома. Он был, видать, из тех людей, которые всегда веселы, здоровы и живут до ста лет, печали не ведая.
Из лесу, пересекая улицу, тащилась усталая лошаденка, в санях сидел, подогнув под себя ноги, парнишка лет тринадцати-четырнадцати в большом полушубке и, дергая вожжами, что-то покрикивал. В передке саней стоял фанерный ящик.