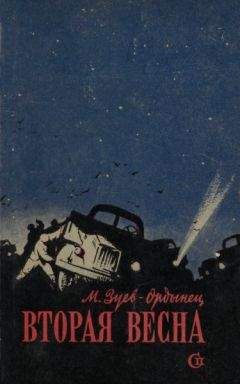Пышной шапкой весело поднимались Васины кудри. Ими заросла, казалось, и малокозырка-«бобочка», всегда ухарски сдвинутая на одну бровь. А выпущенная на лоб волнистая прядка придавала его лицу неукротимое озорство. Но не только шевелюра, все у Мефодина было кудрявое, бесшабашное, озорное: и пушистые ресницы, и смешные, перевернутые запятыми брови, и задирчивый нос, и трегубый рот с рассеченной верхней губой. И голос был кудрявый, с картавинкой, и даже улыбка, навсегда застрявшая в углах губ, тоже была какой-то перепутанной, то веселой, озорной, с хитринкой, а то несмелой и виноватой.
Совсем другим был Шполянский, высокий, с длинными вялыми руками, с бледным, малокровным лицом, как иглой исцарапанным мелкими, видимо преждевременными, морщинами. Невыразительными были и всегда красненький, насморочный носик, и распущенный, — смятый рот, и голос скользкий, гладкий, без зацеп. Но многое темное могли таить тяжелый волчий лоб и круглые, выпуклые, янтарно-желтые глаза. Остро, внимательно смотрели эти по-птичьи безбровые жмурые глаза, и чуялась за плечами этого человека суматошная, неуютная и нечистая жизнь.
— А у вас какая специальность, товарищ Шполянский? — спросил Борис.
— Анкетируете? — ухмыльнулся Шполянский и коротко ответил — Токарь.
Борис с сомнением посмотрел на его вялые, неловкие руки, нелепо торчавшие из коротких рукавов замасленной До блеска телогрейки. Перехватив его взгляд, Шполянский поднял к лицу Чупрова растопыренные пальцы:
— Вот з этой рукы, з дэсяты, как сказать, пальцив, маю кажный мисяць тыщу. То, как железо, твердо! А инший мисяць и боле пощаетыть. На высших, как сказать, оборотах роблю! На фотокарточку знималы. Пэрэдовик!
— Оська, он все может! — сказал серьезно Мефодин, а ноздри его задрожали от сдерживаемого смеха.
Борису снова показалось, что между ними есть что-то такое, что надо прятать.
— Ну прямо старший научный сотрудник! Он только на потолке спать не может. Неудобно говорит, одеяло сваливается.
Борис и Мефодин засмеялись, а Шполянский не улыбнулся. Кивнув на шофера, он жалеюще вздохнул:
— Ось возмить Ваську. Грандиёзный, как сказать, шофер. Алэ пенять у нас такых людэй? То нет! Отправили на целину из-под бороны карбованци тягать. А шо он заробыть на той целине? На сто граммов нэ заробыть, о куске хлиба уж нэ говорю. Комэдия!
— Не темни, Шполянский! — весело ворвался в разговор Мефодин. — Я на целину по своему желанию еду. Я просился на целину. Понимаешь?
— Орел! Энтузиаст, как сказать! — добродушно и словно любуясь Мефодиным сказал Шполянский, но в глазах его было острое. — Ты тэпэр, Вася, масштабный человек. 3 высоких этажей на тэбэ смотрят.
— Не в том суть, браток! — весь светясь радостью, перебил его шофер. — Ты пойми, почувствуй, куда мы едем! На новые чистые земли! Видишь, впереди нас машина идет, Пашки Полупанова? Это колхозник один, по фамилии Крохалев, всей семьей тронулся на целину. Из России тронулся! И все свои хундры-мундры с собой везет. Значит, думает окорениться на целине. А мы что, хуже людей? — улыбался Мефодин, сверкая зубами. Он был переполнен легкой, светлой радостью.
— Младство! Щеня ты, Вася. Не работаешь над собой, як Воронков каже, — прижмурил Шполянский птичьи глаза. — А колы пропадать на той целине нэ за цапову душу, га?
Мефодин так высоко поднял брови, что они скрылись под кудрявой челкой.
— Молчи, Шполянский! Ты мне на нервах не играй, не порть мне веселое настроение! Скажи лучше, зачем ты, базарная душа, на целину потянулся, чего найти там думаешь? Рожу воротишь? Нет, ты отвечай!
— Зараз отвечу. Волюю деньгами наволочку набить. 3 раннего, как сказать, детства мечтаю на деньгах спать, — с таким напряжением сказал Шполянский, что это уже не звучало шуткой. И вдруг посыпал мелкой, пискливой скороговоркой: — Кохана мамуля, я живу дуже хорошо! Мы з Ваней зразу получилы комнату на осемьдэсят два метра, з отоплением, освещением, з ванною, радьо и тэлевизором. Кохана мамуля, мы з Ваней заробылы за дви недили дви тыщи денег и аж два вагона хлиба. Снабжают нас дуже хорошо. Мамо, сэрдэнько, швыдэнько пришлить нам одну посылочку з сухарикамы, а наилепше з мукой и цукером. Целую вас, ваша доця Вера.
Шполянский закатился быстреньким, с частыми всхлипами, смехом.
— Что это такое? — насторожился Чупров.
— Разве нэ чулы по радьо? Письма родным и знакомым з целинных земель. Кажно воскресенье в семь годын по местному часу. То как железо! Якый-нэбудь отображающий товарищ вроде вас цю брэхню насочинял, нэ наче.
— Нехорошо вы говорите, — строго сказал Борис. — Лучше бы вам помолчать.
— Як нэ москаль, то и руками нэ плескай? — подался Шполянский на Бориса волчьим лбом. — Рот затыкаете порядным людям? Га?
Ответить Борис не успел. Шполянский отвалился на спинку сиденья и, уставив глаза в потолок кабины, заунывно запел:
Кайданы турэцьки,
Каторга бусурманська…
Песню он перебил долгим затяжным зевком. Потом, не глядя на Бориса, сказал:
— Ваше «помолчать» в зубах настряло. Алэ прошел тот час, колы…
На чорни кудри наступаты,
3 лоба очи козацьки выдираты…—
снова заныл Шполянский.
Машина резко остановилась. Мефодин зло распахнул дверцу кабины.
— Шо ты, Васька, шо? — испуганно выставил руки Шполянский. — От скаженный! Молчу, молчу!
— Испугался, что из машины выкину? Надо бы тебя!.. Вот так! — Мефодин крепко взял Шполянского за воротник. — Что жмешься? Ладно уж, сиди… — Он встал на подножку и посмотрел вперед. — Опять кто-то застрял.
— А где ночевка будет, не слышали? — спросил Борис.
— На Цыганском дворе будто бы, — ответил шофер.
— Зайдешь на ночевке? — значительно посмотрел на него Шполянский. — Заходь. Чуешь?
— Приказ директора слышал?
— Хо! Прыказ! — засмеялся темным смехом Шполянский. — Падать, так вместях.
— Сволочь ты, Оська, — глухо сказал Мефодин, низко склонившись над рулем.
Борис вылез из кабины, поблагодарил Мефодина и зашагал к голове колонны.
Глава 6
Все чувства наружу!
На этот раз встали перед ручьем с низкими заболоченными берегами. По ручью уже бродил кто-то из шоферов, обутый в резиновые сапоги, выдирая ноги из грязи, как аист. Он неожиданно провалился в яму по пояс, и с берега ему весело закричали:
— Есть такое дело! Сто граммов имеешь, Петя! Особо строгим приказом директора пить во время похода было запрещено. Но людям, намокшим при переправах в холодной весенней воде, выдавали профилактические сто граммов. И сейчас на берегу стояла Квашнина с поллитровкой и мензуркой.
— Вы что же это, в ходячий буфет превратились? — засмеялся, подойдя к ней, Чупров.
— Прямо кафе-поплавок! — засмеялась и Шура. — Искупался — и ко мне.
— Тогда попрошу сто и бутерброд с сыром.
— Сначала искупайтесь да машину потолкайте! — Ого! Подорожала нынче водочка! — с шутливым испугом попятился от девушки Борис.
— На меня будете держать! — закричал шофер, бродивший по топи.
А где-то рядом закричал Садыков:
— Давай туда человек двадцать на страховку!
Не двадцать, а больше ребят, на бегу перешучиваясь, спустились к ручью и здесь, на берегу, смалодушничали, остановились. Перед ними была не добродушная российская грязь, а степная грязища, черная, тяжелая, злая, срывающая с ног сапоги и намертво хватающая за колеса. Но закричал задорно чей-то звонкий голос:
— Чего встали? Кишка тонка? Прошвырнемся!
И ребята побежали в грязь, к застрявшей машине.
Плачуще вскрикивая мотором, она беспомощно топталась на месте, кидаясь то вперед, то в стороны. Ребята толкали ее руками, плечами, спинами и неслаженно, вразноголосицу орали:
— Раз-два взяли!.. Еще раз взяли!..
— Плохо дело идет! Делай, малый, делай! — крикнул сзади Садыков.
Борис обернулся.
— А почему бы не взять на буксир? Ведь без дела стоят, — указал он на машины, уже перебравшиеся на тот берег. — И не будут ребята надрываться!
— Нельзя, нельзя! — испуганно замахал руками Садыков. — Пчихалки, тарахтелки имеем? Мотор имеем? Что?.. Передний мост разболтают! И раму тоже, и вся подвеска к шайтану! Понимаешь? Делай, жигиты, делай! — закричал снова Садыков и побежал к ручью. Но его на полдороге остановил Неуспокоев и что-то сказал, указывая на ручей. Завгар замахал руками, закричал сердито и, задрав полы шинели, полез в грязь. Прораб, глядя на него, засмеялся и пожал плечами.
— Николай Владимирович, идите сюда! Расскажите: в чем дело? — крикнула ему Шура.
Прораб оглянулся, увидел девушку и побежал к ней, не разбирая дороги, обдавая грязью модное свое, пальто. Шура смотрела на него счастливыми, смеющимися глазами.
— Видели? Первое боевое крещение. Грязью! — с недоброй иронией сказал прораб, глядя на ребят, толкавших машину. — Азиатчина! Бестолковщина! Вот как у нас делают историю! Опять все тот же Федька Умойся грязью! Я сейчас сказал Садыкову, что не — суйся, мол, в воду, не зная броду, что надо было за день-два до похода сделать разведку дороги. А теперь нам на переправах скаты пообрывает. Рассвирепел, закричал, руками замахал и сам полез в болото. А что толку?