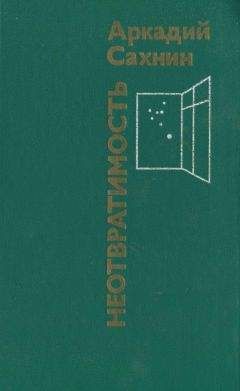— Я уже договорился, Дитрих, сейчас нас пригласят в картотеку и покажут то, что тебя интересует, садись.
Зазвонил телефон.
— Фау Фау Эн, — отозвался Уго. Кто-то дышал в трубку, не отвечая. — Организация лиц, преследовавшихся при нацизме, — сказал он громче. В трубке раздались частые гудки. — Не надоело им… Вот что, Дитрих, пока там нас позовут, давай выпьем кофе.
— С удовольствием. Только закрой сначала это проклятое окно, я совершенно продрог.
Дитрих симпатизировал Уго. Когда-то, в первый период после войны, в этой организации состояли только немецкие патриоты — уцелевшие в гитлеровских застенках, вернувшиеся из эмиграции. В основном — люди пожилые. Постепенно ряды их редели. Тем не менее организация набиралась новых сил: ее пополняла молодежь. Руководил Мюнхенским отделением старый подпольщик, а Уго был его заместителем, и, пожалуй, на нем лежала львиная доля работы.
— Сейчас закрою, — улыбнулся Уго, — хотя должен тебе сказать, что холод дисциплинирует. — Он аккуратно затворил окно и налил из термоса две чашечки кофе.
— Представляешь — наша картотека! Довольно приличная коллекция фашистского отребья. Она же им житья не дает, они не только вывеску разбить готовы, они бы за ней на четвереньках из Парагвая прискакали и проглотили живьем. Только к нам не очень-то сунешься. — И засмеялся совсем как мальчишка.
Вскоре сообщили, что можно спуститься в картотеку. Друзья прошли через комнату, где за письменным столом печатала на машинке худенькая девушка в аккуратной блузке. На подоконнике сидел симпатичный парнишка с серьезными бицепсами. В кресле, свернувшись калачиком, устроилась собачка.
Из соседней комнаты, хлопнув дверью, устремился к выходу человек в кожаной куртке с меховым воротником.
— Вот что, Линда, — обратился он к девушке. — Когда появится Хольберг, поцелуй его от меня и скажи, что я прождал его сорок минут.
В это время на пороге появился смешной человек в дотошном несуразном пальто, с папкой под мышкой. Он весь вымок, ему явно пришлось взлететь по лестнице, но глаза у него смеялись.
— Ну, Линда, целуй меня скорее, я уже появился.
— Слушай, — перебила его кожаная куртка, — если у тебя в редакции дозволено вообще не показываться, потому что это идет только на пользу газете, то в моей мастерской хозяин фланирует с секундомером даже возле сортира. — Последние слова прогремели уже с лестницы.
— Вот сумасшедший. Сколько ждал, а я пришел — он тут же бежать.
— Хорошие ребята, — заметил Уго, когда они вышли на площадку. — Почти все у нас работают на общественных началах, урывают каждую свободную минуту.
— А Линда?
— У нее муж кинооператор, все время в разъездах, фактически, кроме собачки, ей заботиться не о ком.
С первого этажа они спустились в подвал по узкой лесенке и остановились у тяжелой двери, обитой жестью. Уго оглянулся по сторонам, нажал кнопку — короткий звонок, длинный, два коротких. На двери засветился стеклянный глазок, и она тяжело открылась, выпустив на свободу полоску яркого света и захлебывающуюся скороговорку спортивного репортажа. Друзья зашли, в дверь за ними захлопнулась. На маленькой, в полумраке, площадке снова воцарилась тишина.
В тесном помещении, заставленном шкафчиками и стеллажами, Уго и Грюнера встретила чопорная старушка в строгом костюме. Она раскланялась с Дитрихом и попыталась его выслушать, но рев и свист многотысячной толпы, заключенной в транзисторном приемнике на рабочем столе, сделали эту попытку совершенно бесполезной.
— Вы любите футбол, фрау Клюге? — улыбнулся Грюнер.
— Я!!! Футбол?!! — старушка оскорбленно вскинула подбородок и, чеканя каждое слово, обратилась к пространству между стеллажами: — Генрих, умоляю вас, выключите эту ужасную тарабарщину…
Мгновенно из-за стеллажа выпорхнул к столу очень грузный человек в черном рабочем халате, прижимая руку к сердцу, смущенно раскланялся, другой рукой убавил громкость в приемнике и, прильнув к нему ухом, замер в нелепой позе.
— Иоганн Бергер… Иоганн Бергер… — Старушка, перебирая карточки в ящике, нашла нужную, выписала шифр. На секунду задумалась, что-то припоминая.
Она ушла в глубь хранилища, а ее Генрих усадил друзей возле стола, расчистив на нем свободное место, поставил приемник на полку и, символизируя свое возвращение в реальный мир, накрыл его клетчатым платком.
Фрау Клюге принесла толстую папку.
— Вашего друга, — произнесла чуть ли не торжественно, — интересует Иоганн Бергер. Вот он весь здесь.
— Не столько он, как русский бургомистр, служивший при нем.
— Тут достаточно материалов обо всех, кто с ним служил.
— Здесь, — рука Генриха тяжело придавила папку, — собраны материалы и о новейшем, мало кому известном Иоганне Бергере — старом волке, патроне молодежного отделения реваншистской мафии. Этот экспонат живет и процветает в нашем прекрасном городе…
— Теперь я вспомнила, — вставила фрау Клюге, — почти год назад мы возбудили уголовное дело.
— Совершенно верно. Следствие закончено, скоро в суде будет слушаться дело военного преступника Бергера. — Голос Генриха зазвучал громче, — Мы считаем своим долгом раскрыть не только его прошлое, но и подлинное настоящее. Многим нашим согражданам это будет весьма полезно…
— Не надо так горячиться, помните, пожалуйста, о своем сердце. — Маленькая рука заботливо коснулась рукава Генриха, ловко вытащила из-под большого кулака изрядно потрепанную папку и передвинула ее Грюнеру.
— Недавно в Штутгартском отделении Фау Фау Эн, — не унимался Генрих, — напали на очень интересный след теневой деятельности нашего ягненочка. Оказывается, он в своем отеле…
— Извините, — перебил Грюнер. — В этой папке есть какие-либо материалы о русском бургомистре Панченко?
Генрих задумался.
— Панченко… Не помню, в какой связи, но фамилия мне знакома… Да, конечно, я встречал ее в этом деле не раз.
10
Перечитав свою статью, Костя пошел к Сергею Александровичу.
Такого ответственного задания — написать большой, весьма важный очерк — он еще не получал. Понимал: если справится с заданием, поднимется на ступеньку выше в журналистской иерархии. Выложился весь. А все-таки Крылов придрался — и то не так, и это не так. Уже два раза переписывал.
Вообще-то полагалось сдавать работу заведующему отделом, но Крылов взял над ней шефство. И все трое были довольны. Крылов — потому что верил в способности парня и хотел помочь ему, Костя понимал: после такой квалифицированной редактуры никто не станет придираться. Завотделом — потому что не придется возиться со статьей и можно будет, лишь пробежав ее, сдать в набор.
Костя шел по шумному редакционному коридору. Размахивая газетной полосой, испещренной правкой, пронесся курьер, куда-то торопясь, двое, усиленно жестикулируя, перебивая друг друга, спорили, на весь коридор раздался крик: «Пусть срочно печатают, это — в номер».
Шла обычная бурная жизнь редакции. Кабинеты начальства, отдельные рабочие комнаты спецкоров, и те, в которых сидят по нескольку человек, и коридоры всегда полны людей — сотрудников, просителей, жалобщиков, разоблачителей, изобретателей, посторонних авторов. И все торопятся, все делается в бешеном темпе. Это не мешает людям, казалось бы, не имеющим секунды свободного времени, собраться у журнального столика в холле, покурить, поболтать, порой расслабиться за чашечкой кофе, потом спохватиться, глядя на часы, и умчаться, предоставив следующему те же возможности. И стоит там неизменный гул голосов и смех.
На непосвященного редакционная атмосфера может произвести удручающее впечатление. Однако хаос лишь кажущийся. Идет напряженная работа. Все подчинено единой воле, единой цели.
Костя проработал в редакции почти год, но никак не мог свыкнуться с правкой, порой нещадной, которой подвергаются почти все материалы, идущие в газету. Поочередно правят завотделами или их заместители, потом правят в секретариате, в редакторате, правят в оригиналах, в гранках, в верстке на полосах. Заодно и сокращают. Каждый старается ужать текст до предела. Только статьи опытных журналистов идут почти без исправлений до бюро проверки и корректуры, — там не щадят никого. Даты, цифры, события, фамилии, звания, награды и еще бесчисленное количество данных, содержащихся в материале, автор должен подтвердить ссылками на первоисточники. Корректура еще более категорична. Знаки препинания расставляет точно, как это положено по учебнику, не считаясь с волей автора, и после ее читки материал испещряется красными черточками и вопросительными знаками. А порой на полях против неудачной фразы появляется и резолюция: «Не по-русски».
В результате тщательной работы всего аппарата порой от корреспонденции мало что остается. Случается и так: пройдя все сциллы и харибды, испещренный крючочками, означающими визы ответственных лиц, материал доходит наконец до главного редактора, а там уже бракуется окончательно.