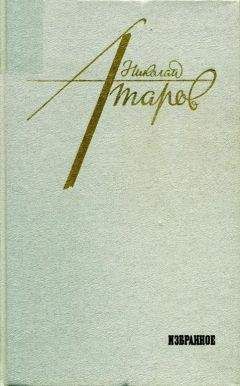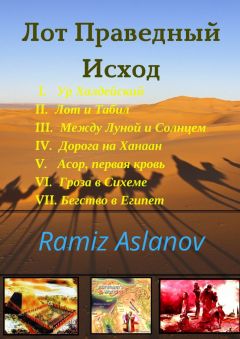— Пейте.
— Вы меня не узнали, товарищ полковник?
— Ага, корреспондент? Историк. Валенки сушите?
Я молча пересел к столу. В мигающем свете лицо Голощекова с закрытыми глазами показалось мне гипсовой маской — теперь-то он спал и, может быть, даже видел сны. Такое у него было спящее лицо с нервно подрагивающими тонкими веками — белобровое по-деревенски, исхудалое, небритое, поросшее мягким светлым пухом. Конечно же, он видел сны.
— Дочка в сентябре родилась. На Алтае. Далеко, — сказал он, не открывая глаз.
Значит, все-таки не спит?
Я подошел к окну, опустил синюю бумажную штору, потом отогнул ее край — за стеклом сквозь морозные узоры был виден мертвый городок, сходивший волнами заснеженных крыш и дворов к светло-зеленому Дону в белых пятнах сала, был виден и криво наведенный бревенчатый мост, а за переправой — лесок, там, по берегам, разбегался веер дорог, наезженных перед наступлением. Далекая, отодвинувшаяся в эти ночи канонада не мешала слышать, как тюкал топориком во дворе ординарец.
— Нет Прошкина. Нет и не будет больше Прошкина.
Я не разобрал, что он бормочет, наливая себе второй стакан. Я снова подсел к столу, не зная, как помочь человеку. Он не взглянул на меня. Чуть порозовело лицо, воротник куртки-кирзовки расстегнут, отчего как бы разъехались золотые танки на черных петлицах.
— …Он из Воронежской, из рабочих. С третьего года. Здоровенный, смелый, таких редко встретишь. Я его послал, он рванул на своем «козле». А через час водитель ползет по снегу, без рубашки, его уже перевязали, в руку ранен. Один ползет… «Где майор?» — «Тащат его». Его принесли из лощины, я подошел. Заплакал, честное слово. Планшет отдал Зарубину, ремень — Рубцову, он его возил. «Отнесите и похороните». Две пули достались Прошкину: в грудь и в лоб. Прямо в висок. Маленькая дырочка…
Он вдруг запнулся, потом тряхнул головой, будто отмахнулся, отклонил какую-то неудобную мысль. Он и сейчас не желал думать о том, что его ожидает.
— Всегда с песней, с шуткой, покажи ему сухарь, будет смеяться… — Он не знал, как еще прославить погибшего в бою. Помолчав, добавил: — Хохол веселый. Каждое утро выйдет на лестницу сапоги чистить. Мы ждем — сапожная щетка непременно выскочит из рук, и он сам загремит за ней по ступенькам догонять.
Наконец-то он подвинул к себе лист бумаги, вынул из планшета авторучку.
— Вы сперва начерно, — посоветовал я. — Главное, ищите причину. Ведь вас обвиняют в трусости.
Он не расслышал. Но и писать не стал.
— Надо было идти в прорыв мимо Гадючьего, ночью минные поля были расчищены. А я ввязался в бой на семь часов. — Он думал вслух, забыв о бумаге, думал, как, похоже, привык на штабных учениях во время разбора операции. — В отступлении противника не должно быть последовательности. А я протоптался еще три часа на рубеже 217,2. Авиация непрерывно наблюдала отход колонн. Командующий взбеленился, орал в трубку: «У вас мало пленных, мало убитых! Противник отходит, сохраняя боеспособность!» А я еще шесть часов потерял на Манучарке — строил мост. Сваи вбивали до трех метров. Я послал начштаба к старому мосту, но он не добрался, попал под обстрел, бросил машину, вернулся пешком. Я три года командовал частью, знал всех, а тут не проверил его донесения… — Он осклабился: — Да, это не Прошкин.
Он трогал небритую щеку, натягивал кожу пальцами к виску, как будто брился без зеркала. Я внимательно слушал. Уже второй месяц по поручению Военного совета я восстанавливал историю предыдущей операции фронта, увенчавшейся полным успехом, поднимал в управлениях штаба кипы донесений, рапортов, оперсводок, подружился с прокуратурой ради протоколов дознаний. А в эту ночь я впервые слышал с голоса то, что еще ляжет потом на бумагу. Пройдет десять, двадцать лет, и показания полковника Голощекова станут для военных историков важным свидетельством — что было правдой в те дни, когда танковые корпуса в декабре вошли в прорыв и подвижные группы рвались наперехват железной дороги.
— Колокола звонят? — Голощеков удивленно прислушался.
Только сейчас я понял, как его выглушило в бою. Он снова монотонно заговорил, впервые вытаскивая из клубка всю ниточку спутанных, сбившихся соображений.
— Я не боялся смерти… Чего же я боялся? Растерять часть? Нарушить боевой курс? Я топтался, с трудом пробивая себе путь, и ложно докладывал. Да, ложно докладывал. А потом после бомбежки сгорели оперативные документы, были убиты многие штабные работники, я потерял все три рации, — связь прервалась, и я просто замолчал. Но я ведь не вчера замолчал — раньше, гораздо раньше! Когда еще выгружались и шли ночными маршами. Почему же я тогда умолчал о том, что не хватает сотни грузовиков? Почему умолчал о том, что арторудия грузились с последним эшелоном? Почему не доложил командующему, что к началу прорыва двадцать танков оказались еще на подходе, что по самый день отправки были некомплектные экипажи, что грузился с адресованием не на ближайшую станцию — отдаленность до места сосредоточения двести пятьдесят километров! Что с того, что командующий не вызвал. Черт его знает, почему он не вызвал. А надо было самому ломиться, бить в набат.
— Показывать действительное?
Он очнулся, но, видно, не расслышал моих слов.
— А смерти я не боялся, — с некоторым недоумением повторил он. Порывшись в планшете, он извлек штабной конверт, вынул из него какую-то бумагу, со многими подписями — вкривь и вкось. И снова лицо его странно оскалилось в невеселом смешке. — Бомбы летели. Шесть штук. Аккурат где крест стоял на юру, там фриц похороненный… А я терпеть не могу, что люди не хотят идти вперед… Ну, тут меня рвануло, бросило наземь. И как раз такую воронку вспахало — ничего от креста фрицевского! Меня оглушило немного. Иду, руки расставил. А навстречу мне — нелепость какая! — офицер связи. С праздничной улыбкой! Вручает вот это длиннейшее письмо. Сослуживцы из штаба поздравляют со званием генерал-майора… Нет, ромбы ума не прибавят. Допивай. Я посплю разочек…
Он откинул голову и, как по команде, уснул. Я видел, как шевельнулся его острый кадык — уже во сне он сделал это глотательное движение. Точно маленький. Во сне заскрипели зубы. Во сне какое-то воспоминание приподняло и опустило его худые плечи. Мне было жаль его — упрямого, твердого. В дивизии его не боялись, а уважали, в танковых экипажах я слышал о нем: «Корень! Наш корень».
Странная ночь. Третий час, взошла поздняя луна, и легкие облака ее не закрывают. Когда стоишь, приоткрыв штору, морозное бело-голубое стекло тонко дребезжит оттого, что пролетел самолет и по нему ведут огонь на переправе. А вернешься к столу, освещенному мигающим светом лампочки, — там рядом с чистыми листами бумаги, бутылью рома и недопитым стаканом — журнал «Русская мысль», раскрытый на странице с царским манифестом о рождении великой княжны Ольги… Жарко пылает печка. От нечего делать я поднимаю с пола рукава голощековского комбинезона и складываю у него на коленях. Он даже не шевельнулся. Я листаю старинный журнал и натыкаюсь на чеховскую «Ариадну». А прокурор тоже не спит, ему нельзя — ждет санкции Ставки, я слышу, как, отзвонив по телефону, он препирается с ординарцем.
— Что за система: прикажешь — принесут кофе, не прикажешь — не принесут.
Он второй раз выходит в сени — шинель по-ночному внакидку, полы подхвачены рукой. Спящего Голощекова не замечает. Теперь, в сенях, он донимает адъютанта, слышу обиженный голос балованного мальчишки:
— Зачем нам дают погоны, раз мы, офицеры, так не уважаем друг друга…
— Чего ж не пьете? — Голощеков проснулся неслышно, как будто не спал. Он лениво залезает в рукава комбинезона, удивленно оглядывая все его масляные пятна и подпалины. Идет в сени пить воду — я слышу, как он долбит лед в кадушке. Возвращается с ножницами в руках, разглядывает их со вниманием. Откуда ножницы? Или он ими пробивал лед? Он присаживается боком к столу и по-мастеровому, сгорбясь, финским ножом ввертывает винтик. Как это он заметил, что ножницы разболтались и жизнь их кончается?
— Как ни старайся, жена всегда узнавала, что выпил, — бормочет Голощеков, колдуя над ножницами. — Этого не скроешь. Долго понять не мог, почему она узнавала, а потом догадался: вернусь навеселе — спать, а ночью выйду на кухню воду пить, она и засекает… А это в самом деле колокола звонят?
Он подошел к окну, пытаясь вслушаться в колокольный набат, не умолкавший в его ушах. А может быть, он мысленно провожал своих молодцов? В эту ночь войска на широком фронте преследовали противника и навязывали ему бои. Никто не спал в огромных пространствах, освещенных морозной луной. И головной танк, заляпанный снегом и грязью, с клоками зеленых шинелей на гусеницах, выходил, вылезал на голый бугор под обстрел. Может быть, там находился сейчас Голощеков? Но мне почему-то казалось, что расслабла его мускулатура, что он уже в доме, в комнате, у окна, прикрытого синей шторой. С той минуты, как он пожалел ножницы, я знал — для него начинается самое страшное. Теперь-то он задумается о том, что его ожидает. Я знал, что теперь он будет честным в показаниях, не соврет, хотя ему сейчас быть честным — хуже, чем спиться.