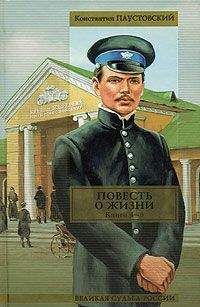за этого маленького человека? Или вы все такие добрые, что пожалеете и простите тех, кто подарил нам такой хороший подарок — эту войну. Боже ж мой, когда, наконец, соберутся люди и сами будут делать для себя настоящую жизнь!
Он поднял руки к потолку синагоги и пронзительно закричал, закрыв глаза и покачиваясь:
— Я не вижу, кто отомстит за нас! Где человек, что утрет слезы этих нищих и даст матерям молоко, чтобы дети не сосали пустую грудь! Где тот, кто посеет на этой земле хлеб для голодных? Где тот, кто отнимет золото у богатых и раздаст его беднякам? Да будут прокляты до конца земли все, кто пачкает руки человека кровью, кто обворовывает нищих! Да не будет у них ни детей, ни внуков! Пусть семя их сгниет и собственная слюна убьет их, как яд. Пусть воздух сделается для них серой, а вода кипящей смолой. Пусть кровь ребенка отравит кусок богатого хлеба, и пусть тем куском подавятся они и умрут в мучениях, как раздавленные собаки.
Старик кричал, подняв руки. Он тряс ими, сжимал их в кулаки. Голос его гремел и наполнял всю синагогу.
Мне стало страшно. Я вышел, прислонился к стене синагоги и закурил. Моросил дождь, и тьма все плотнее прилегала к земле. Она как бы нарочно оставляла меня с глазу на глаз с мыслями о войне. Одно было для меня ясно: надо положить этому конец, чего бы это ни стоило. Надо отдать все силы и всю кровь своего сердца за то, чтобы справедливость и мир восторжествовали наконец над поруганной и нищей землей.
Измена
В Кобрине мы получили приказ идти на север. Мы двигались, почти не останавливаясь, пока не дошли до местечка Пружаны вблизи Беловежской пущи.
По дороге мы проходили мимо бесконечных скудных полей, заросших дикой горчицей.
На юго-западе курился взорванный Брест.
В поле около Пружан мы увидели брошенное орудие с развороченным стволом и остановились.
Около орудия сидели солдаты в заскорузлых шинелях. Иные курили, другие перематывали портянки, третьи сидели без дела, равнодушно поглядывая на нас. Я подъехал к солдатам.
— Что это? — спросил я бородатого солдата и показал на разбитое орудие. Солдат лежал, прислонившись к орудийному колесу, и курил. Он мельком посмотрел на меня и ничего не ответил. — Что это такое? — спросил я снова.
— Так я тебе и должен все докладывать! — огрызнулся солдат. — Что ты есть за начальник? Не видишь, что ли? Орудия!
— Почему ствол разворочен?
Солдат отвернулся и махнул рукой. За него ответил плачущим голосом молодой солдат без фуражки. Его стриженая белобрысая голова блестела, как стеклянный шар.
— Ну что пристали, молодой человек! — сказал он с досадой. — Покою от вас всех нету. Хоть в омут кидайся.
— Чего он спрашивает? — закричал солдат с зеленым лицом. Он сидел на корточках и соскребывал щепкой грязь с сухаря. — Чего душу тянет? Не соображает, что с орудием? Измена — вот что!
— Измена! — повторил хриплым голосом бородатый солдат, сел и отшвырнул цигарку.
Он сжал черный кулак и потряс им на восток, где ветер гнул тонкие ракиты.
— Измена, язви их в бога, в мать, в душу! Артиллерия вперед обозов отходит. Нет снарядов. А какие есть, так те рвутся в стволах. И патронов, обратно, нету. Что ж мы, дрючками, что ли, будем с германцами биться!
— Измена! — сказало несколько глухих голосов. — Не иначе, как здесь измена.
Наши фурманки тронулись. Я отъехал.
Так я впервые услышал на фронте это черное слово — «измена». Вскоре оно прокатилось по всей армии, по всей стране. Его произносили то шепотом, то во весь простуженный голос. Говорили все — от обозного солдата до генерала. Даже раненые в ответ на расспросы: «Как ранен?» — злобно отвечали: «Измена!»
Все чаще слышалось имя военного министра Сухомлинова. Говорили об огромных взятках, полученных им от крупных промышленников, сбывавших армии негодные снаряды.
Вскоре слухи пошли шире, выше, — уже открыто обвиняли императрицу Алису Гессенскую в том, что она руководит в России шпионажем в пользу немцев.
Гнев нарастал. Снарядов все не было. Армия откатывалась на восток, не в силах сдержать врага.
Мы шли по южной части Гродненской губернии, кормили беженцев, отправляли их в тыл, забирали больных и развозили по лазаретам.
Начались обложные дожди. Желтые пенистые лужи рябили на дорогах. Дожди тоже казались желтыми, как лошадиная моча. Шинели не просыхали. От них воняло псиной. Ветер непрерывно гнул кусты вдоль дорог и свистел ветвями, как розгами.
Попутные местечки — Пружаны, Ружаны, Слоним — были обглоданы, как кости, отступающими войсками. В лавчонках ничего не осталось, кроме синьки и столярного клея. «Жолнежи вшистко забрали», — жаловались запуганные лавочники-евреи.
Мы все реже разговаривали с Романиным. Его лицо с постоянно опущенным от ветра на подбородок ремешком фуражки казалось теперь жестким и угловатым.
Пан Гронский носился где-то на своем разболтанном форде и добывал нам продовольствие. Он появлялся редко — измятый, невыспавшийся, с набухшими веками. Пушистые его усы отросли и закрывали рот. От этого Гронский выглядел стариком.
Каждый раз, приезжая, он брал меня за локоть, отводил в сторону и говорил доверительным шепотом:
— Ничего! Не огорчайтесь, дитя мое! Когда кончится эта чертова война, мы пойдем на Петроград и скинем с трона к свиньям собачьим этого олуха со всеми его гессенскими выродками. А Польша воскреснет. Як Бога кохам! Не может пропасть страна, где были такие люди, как Мицкевич, Шопен, Словацкий. Не может! Вокруг их славы, как солдаты у костра, соберутся лучшие люди Польши. И они поклянутся: «Hex жие вольна народова Польска. На веки векув! Hex жие!»
Он каждый раз говорил мне одно и то же, даже теми же словами, как одержимый. Я не знал, от усталости это или от болезни. Глаза у Гронского лихорадочно горели, и он так крепко стискивал мой локоть, что я едва сдерживался, чтобы не вскрикнуть от боли. Я вспомнил, что у сумасшедших развивается необычайная сила в руках.
Я рассказал о своих опасениях Романину. Он пронзительно посмотрел на меня и зло сказал:
— А вы что же, знаете разницу между сумасшедшими и нормальными? Нет? Так какого же черта лезете со своими выводами! Мне наплевать на них. Может быть, я сам сумасшедший.
Я никогда еще не видел Романина в такой ярости.
— Заприте-ка своего зверя на замок, — ответил я, стараясь быть спокойным.
Он криво улыбнулся, схватил меня за плечо, притянул к себе, но тотчас оттолкнул и вышел.
Было это в Слониме, в ларьке, где недавно торговали керосином. Пол был обит листами железа. На железе еще стояли керосиновые лужи.
Сесть было негде. Я прислонился к стене, выкурил папиросу и вышел вслед за Романиным.
Отряд уже отходил. Дождь стекал с брезентовых плащей.