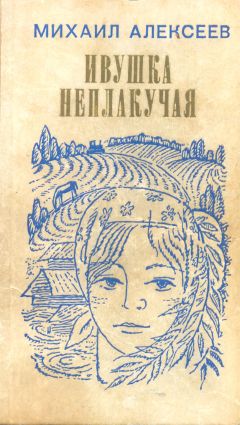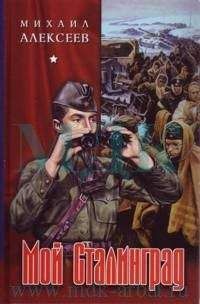Минька помогал, а потому и был любим Гринькою. Ночь перед комсомольским собранием ребята провели в Минькином доме, куда по случаю столь великого события в жизни ее приемыша пришла и Степанида Луговая. Минька и Гринька устроились в передней, а их матери в задней избе. Те и другие за всю ночь не сомкнули глаз. Ребята экзаменовали друг друга по специальному вопроснику, разосланному райкомом комсомола, чтобы не завалиться на собрании, а затем и там, где выдаются билеты члена Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи: для начала каждый из них несколько раз кряду произнес вслух эти слова, расшифровывая таким образом пять давно ставших знакомыми и родными, лег-копроизносимыми букв — ВЛКСМ. Степанида и Мария, прислушиваясь через приоткрытую дверь к звонким их, все набирающим и набирающим силы, уже плохо контролируемым взволнованным голосам, сами, не замечая того, заражались энтузиазмом детей, начинали вслед за ними повторять те же слова, при этом путались, спотыкались языками, ворчали досадливо: «Разве запомнишь? Тут любой собьется». А перед их сыновьями было двадцать три вопроса, заключавших в себе всю историю комсомола. Минька и Гринька знали, конечно, что не все эти вопросы будут заданы им на собрании и на бюро райкома, но какие-то из них обязательно будут заданы. Но какие именпо? Кто же скажет тебе заранее! Нужно быть готовым к тому, чтобы хорошо, четко, без запинки ответить на любой из них, а это значит — на все двадцать три вопроса. Сначала шли по порядку, так, как эти вопросы расставлены в списке, затем задавали их друг другу вразбивку. Из горницы все время слышалось: «Что является высшим органом ВЛКСМ?» — «Что такое комсомол?» — «С каких пор комсомол носит имя Ленина?» — «Кто был первым пионером?» — «Кто был первым комсомольцем?» — «Когда родился В. И. Ленин?..»
Мария Соловьева и Степанида Луговая, слыша все это, хмурились, глядели со страхом друг на дружку, шептались: «Господи боже мой, да тут голову сломаешь, с ума сойдешь, право слово! Кто же могет запомнить такую пропасть вопросов! Провалятся ребятишки, ей-ей, провалятся!»
А ребята не унывали — подбадривали себя, отвечали громко, с воодушевлением, как на экзамене.
— Расскажи, Луговой, — напирал на своего товарища Минька, — какие комсомол имеет ордепа и за что они получены?
Минька вскакивал с места, ходил по комнате, пригибаясь, боясь поднять головой потолок, орал что есть моченьки:
— Первый орден, орден Красного Знамени…
— Боевого, — поправлял Минька.
— …орден боевого Красного Знамени был получен комсомолом в одна тысяча…
— Без «одна», — опять поправлял экзаменующий.
— …был получен в тысяча девятьсот двадцать восьмом году.
— За что?
— Да ты не перебивай меня! — взмолился наконец Гринька. — Все скажу по порядку. За что, говоришь? Известно за что: за участие в гражданской войне.
— Правильно. А второй?
— Второй орден, орден Трудового Знамени…
— Красного Знамени!
— …Трудового Красного Знамени, был получен комсомолом в тысяча девятьсот тридцать первом году за восстановление народного хозяйства. Третий орден, — заторопился Гринька, чтобы упредить своего дружка-экзаменатора, — орден Ленина, был получен комсомолом в июне тысяча девятьсот сорок пятого года за участие в Великой Отечественной войне, — закончил он без малейшей запинки, потому как считал про себя этот орден самой дорогой наградой для ВЛКСМ.
— Ну а четвертый? — спросил Минька, видя, что его друг остановился, как норовистый конь на бегу. — Четвертый — когда и за что? Молчишь? А говоришь — не перебивай. Подсказать, что ли?
— Погодь, может, еще вспомню…
— Не вспомнишь. Не морщи лоб, не тужься — не знаешь. Слушай. Четвертый орден, орден Ленина, был получен комсомолом в сорок восьмом году за активное участие в мирном строительстве…
— Погоди, что ты говоришь? — теперь уж перебил своего товарища Гринька. — В вопроснике слова «мирное» нету! Я теперь вспомнил. Там сказано просто: «за активное участие в строительстве». А ты…
— Что я? Нельзя же, Гринька, быть таким буквоедом! Когда орден получен? В сорок восьмом году, сразу же после войны? Чем занимались наши люди? Строительством. Каким? Конечно же, мирным! Понимать надо. Н5 а пятый — какой, когда и за что? Помнишь?
— Еще бы! — выпалил Гринька с оттенком самодовольства. — Это тебе любой скажет…
— Мне любой не нужен. Скажи ты.
— Пожалте, товарищ… — Гринька поперхнулся, он чуть было не назвал Миньку Непряхиным, как называли его за глаза все завидовские мальчишки и девчонки. — Пожалте, товарищ Соловьев! Я готов. Итак, пятый орден, орден Ленина, был получен комсомолом в 1956 году за… — и, не досказав, загорланил, до смерти напугав матерей: — «Здравствуй, земля целинная…»
— Правильно. Молодец. Ну а шестой? — Минька уткнулся в бумагу, чтобы спрятать лукавую ухмылку.
Гринька задумался. Потом сокрушенно развел руками;
— Не знаю.
Минька подпял глаза, сверкнул в широченной улыбке ослепительной белизны зубами:
— Ия, Гринь, не знаю, потому как шестого ордена у комсомола покамест еще нету. Но он будет! И нам с тобой, Гринька, зарабатывать его для комсомола. По-иял?! — Минька покосился на заголубевшее окно. — Мать честная, светает! Ну и ну! Мамы-то наши спят аль нет? Им-то чего не спится!
— Уснешь с вами! — отозвалась Мария. — Вы орете, как на митинге, шабры, поди, все проснулись. Подготовились, что ли, ай нет? — спросила она, пряча за грубоватым тоном материнскую свою тревогу.
— Вроде подготовились, — сказал Минька.
— А вы еще маленько позанимайтесь. Наизусть чтоб… — подала свой голос и Степанида.
Не отпустили они одних сыновей и на комсомольское собрание, которое проходило в недавно отремонтированном, подновленном малость клубе. На удивленный, немного растерянный взгляд Тани Степанида сурово молвила:
— Не гляди на меня так, Танюша. Мы ить не чужие им. Вот вырастила бы ты в такое-то время одна их, узнала бы, что это есть такое… Так что посидим, мы ведь тоже когда-то были комсомолками. Не краеней и не пожимай плечиками. Начинай собрание, а мы вот с Марией посидим тихо-мирно да послушаем. Мы вой там, в уголочке, с краешку. Пойдем, Маша.
Бесконечно счастливые благополучным для их сыновей исходом дела, хотели было сейчас же после собрания увести их домой и там вместе пережить еще раз эту радость, но тут уж ребята воспротивились, почувствовав сёбя с этого часа окончательно взрослыми. Всегда покорный материной воле, Гринька теперь сказал, бася неровным, ломающимся голосом;
— Мам, мы немного погуляем, побудем тут. Ступайте, мам!
— Пойдем, Маша, — вздохнула Степанида, — пускай их погуляют. Глянь — мужики!
— Это твой Гринька — мужик, а мой как был сморчок, так сморчком и останется, — сказала Мария и, усмехнувшись, закончила: — От сморчка сморчки и родятся. Вылил, как каплю воды, в себя этот Непряхин! — говорила так, а глаза светились неизбывной, непреходящей нежностью.
Они пришли в Степанидину хижину вместе, не сговариваясь — не хотелось расставаться в тот вечер. Присели к столу. Степанида вышла на минуту в чуланчик, примыкавший к сеням, вернулась с бутылкой самогона.
— Да ты что это, Стеша, надумала?
— Ничего. День-то какой у нас!
— Фешоху бы позвать, — вспомнила Мария.
— А ты сбегай за ней, пока я спроворю яишенку.
Часом позже проходившие мимо Степанидиной избы люди с удивлением слышали, как из ее окон выплескивалось грустно-задумчивое:
Ивушка, ивушка, зеленая моя,
Что же ты, ивушка, незелена стоишь?
Иль частым дождиком бьет, сечет,
Иль под корешок ключева вода течет?
За окном, скрываясь у простенка, кто-то стоял. Степанида склонилась набок, запрокинув голову, пригляделась. Угадала:
— Антонина Непряхина затаилась.
— А в избу боится войти. Когда-то старшей подругой для нас с Феней была. Песню-то эту она, Антонина, заводила. Любила очень. Вот и пришла на наши голоса, укрылась у завалинки, а нет бы войти и подтянуть…
— Не войдет, не простит она тебе, Маша, вовек. Мы ить, бабы, за свово мужика… Это еще Антонина смирная, а то бы…
— Попробовала бы, — сказала Мария, сверкнув отчаянным своим оком.
Феня решила остановить их:
— Будя уж вам об этом, бабы. Не теребите своих ран — свежи они, не зажили.
Но Соловьевой уж вожжа под хвост попала:
— Удивляюсь я на тебя, Стеша. Скоко годов живешь без мужика — и ничего. Я б с ума сошла.
— Разные мы с тобой, Маша, — сказала Степанида и, обняв приблизив к себе обеих, вновь затянула — тихо и печально:
Девица, девица, красавица душа,
Что же ты, девица, невесела сидишь.
Али ты, красавица, тужишь о чем,
Али сердце поет по дружке милом?
Степанида спрашивала своим глухим, придавленным чем-то тяжелым голосом, а Феня и Мария отвечали — так же тихо и грустно: