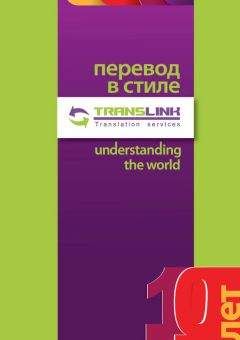— Разойдись по бло-оокам! Ужин никому не выдавать!
Пистер выразительно посмотрел на гостей из Берлина, усмехнулся криво и заключил:
— Эту большевистскую банду не испугает даже смерть…
На обратном пути в Берлин словоохотливый Фролих помалкивал. Мрачно молчал и есаул Крайнов. Бармин сдержанно улыбался, и Максиму хотелось обнять его на радостях — так он был взволнован и восхищен железной волей запертых в лагере советских солдат.
Дома их ждала еще одна радость. В столовой фрау Керстен они увидели на диване молодую светловолосую девушку в модном синем платье. На ее красивых руках сверкали массивные серебряные браслеты, ярко накрашенный рот приветливо улыбался.
Фрау Керстен, отложив вязание, представила ее:
— Моя младшая сестра Гизела Вайсенборн. Художница. Живет в Альт-Ландсберге.
Селищев и Бармин учтиво поклонились.
Несколько минут спустя фрау Керстен отлучилась на кухню. Поднялась с дивана и Гизела Вайсенборн, но из столовой не вышла, а только прошлась из угла в угол и, продолжая улыбаться, проговорила вполголоса:
— Я очень рада нашему знакомству. Между прочим, дядя Тодор из больницы вышел и просил вас не беспокоиться.
Художница из Альт-Ландсберга приехала в Берлин как связная Тодора Цолова.
3
5 апреля 1942 года Адольф Гитлер подписал директиву, в которой были определены задачи и цель летней кампании на Восточном фронте.
Цель формулировалась так: «Окончательно уничтожить оставшиеся еще в распоряжении Советов силы».
Задачи выдвигались следующие: «Сохраняя положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ… Все силы должны быть сосредоточены для проведения главной операции на южном участке с целью уничтожения противника западнее Дона, чтобы затем захватить нефтеносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет…»
Уже в конце мая по большому пустопольскому тракту, вздымая тучи пыли, загромыхали танки с черными крестами, артиллерийские тягачи, автомобили с мотопехотой. Немецкие войска устремились на юг.
До мая немцы почти не заглядывали в глухую, захудалую деревушку Огнищанку. Всего два или три раза были. Похватали телят, свиней, кур и исчезли.
От имени немецкого командования власть в Огнищанке и окрестных хуторах должен был осуществлять староста — Спирька Барлаш. Для поддержания «нового порядка» немцы выдали ему чешский карабин. Но трусливый Спирька и с карабином побаивался выходить из собственной хаты. Пока никого не трогал. Не выдал даже коммуниста Илью Длугача, бывшего председателя Огнищанского сельсовета, хотя отлично знал, что тот хоронится на сеновале. «Черт его знает, чем это все кончится, — рассуждал про себя Барлаш, — может, красные еще очухаются и врежут Гитлеру. Лучше мне держаться до поры до времени подальше от греха, безногий Длугач никуда не денется…»
Однажды Спирька наведался к старикам Ставровым, но ни словом не обмолвился о своей встрече с их младшим сыном Федором. Только переполошил Дмитрия Даниловича и Настасью Мартыновну. Ведь у них еще отлеживался за печью раненый комиссар Михаил Конжуков. Выздоровление комиссара шло медленно, раны заживали плохо.
Ставровы встретили Спирьку на крыльце. Преграждая ему путь в жилую половину дома, Дмитрий Данилович оперся плечом о дверной косяк. Взволнованная Настасья Мартыновна топталась за спиной мужа. Это насторожило Спирьку — он разгадал их маневр. Тем не менее повел себя смиренно — стоял у крыльца и мямлил, сверля старого фельдшера бесцветными своими глазками:
— Так оно вот чего, гражданин или господин Ставров… Не знаю, ей-право, как теперь вас именовать… Пришел я до вас помощи просить.
— Заболел, что ли? — сухо спросил Дмитрий Данилович.
Спирька потоптался на месте, переступая с ноги на ногу, оглянулся, понизил голос до шепота:
— Нервы меня замучили. До невозможности нервным я сделался. Да и как не сделаться нервным, когда такое кругом творится? Красные скрозь отступают, прямо без оглядки бежат. На хуторах дезертиры появились, до баб-солдаток в мужья пристраиваются. По всему видать, конец Советской власти приходит… — Он притворно вздохнул, страдальчески сморщил безбровое одутловатое лицо. — Вот меня старостой поставили, ответственность возложили за то, чтобы новый порядок никто не нарушал. Я обязан про этих беглых красноармейцев немецкому начальству доложить. А меня жалость одолевает, нервы мучают. Так что прошу дать мне какой-нибудь порошок либо другое лекарство от нервов.
— В амбулатории сейчас нет ничего подходящего, — сказал Дмитрий Данилович. — Вы бы, как староста, потребовали от своего начальства снабдить нас медикаментами…
Спирька ушел, но тревога, навеянная его появлением, не покидала Ставровых. Дмитрий Данилович рассказал обо всем раненому комиссару. Тот внимательно выслушал его и тут же сделал вывод:
— Мне надо уходить.
Но куда уходить? И как уходить, если он, Конжуков, даже по комнате еле-еле передвигается с палочкой?
Дмитрий Данилович вспомнил, что в Казенном лесу, в самой что ни на есть глухомани, возле родничка, кем-то давным-давно вырыта и обложена камнем-голышом добротная землянка. Ее случайно обнаружил, будучи еще мальчишкой, Федор Ставров.
Старый фельдшер предложил Конжукову перебраться в эту землянку.
— Туда, Миша, сам черт не доберется, — заверил он комиссара.
— А долго мне еще быть беспомощным? — с тревогой и надеждой спросил Конжуков.
Дмитрий Данилович почесал затылок. Ответил не сразу:
— Недели две-три, не меньше. И то при хорошем питании. Насчет питания можешь не беспокоиться — харчами обеспечим. Об этом позаботится моя Мартыновна. Раза два она сумеет сходить в лес, вроде бы за хворостом.
Ставровы очень привязались к раненому комиссару. Смуглолицый, темноволосый Михаил Конжуков напоминал им одного из сыновей — Романа. И характером был схож с Романом — такой же горячий, скорый на решения. Но в те тревожные дни, когда немецкие войска валом валили по пустопольскому тракту и все чаще сворачивали в Огнищанку, расставание с ним стало неизбежностью. Охваченный страхом за его жизнь, Дмитрий Данилович сам стал поторапливать Конжукова:
— Так что будем делать, Миша? Как ты решил насчет землянки в лесу?
Конжуков не заставил долго ждать ответа.
— Землянка так землянка. Мне бы только поскорее стать на ноги и перейти линию фронта. Долечивайте меня, Данилыч, где вам угодно, лишь бы толк был…
Ночью, соблюдая все меры предосторожности, Дмитрий Данилович обильно смазал оси легкой амбулаторной двуколки — чтоб колеса не скрипели, уложил в нее несколько буханок только что испеченного Настасьей Мартыновной хлеба, картофель, лук, банку соли, фонарь, запряг лошадь и долго стоял у ворот, вслушиваясь в ночные звуки. На тракте было тихо.
— Поехали, Миша, — объявил он, возвратясь в дом. — Ночь темная, авось проскочим незамеченными.
Заплаканная Настасья Мартыновна перекрестила Конжукова, прошептала:
— В добрый час, сынок… Дай тебе бог удачи…
С помощью Дмитрия Даниловича Конжуков сел в двуколку, сбоку положил заряженные пистолеты.
Огнищанка спала. Они выехали за деревню, никого не встретив по пути. Постояли в кустах неподалеку от пустопольского тракта, благополучно пересекли его и углубились в лес.
Повеяло влажной свежестью, и как бы еще более сгустилась тишина ночи. Лишь откуда-то издалека доносился то ли танковый, то ли автомобильный рокот.
— Движутся, сволочи, — угрюмо обронил Конжуков. — И все на юг, все на юг. Не иначе как прорван там фронт, вот они и лезут в дыру. Должно быть, на Кавказ рвутся.
Дмитрий Данилович тяжело вздохнул:
— Дожили! На своей земле от каждого шороха прячемся, каждого встречного остерегаемся. А им вон все нипочем, — кивнул он назад.
Там, над трактом, смутно вскидывались и опадали длинные отсветы автомобильных фар.
— Открыто идут, гады, — в свою очередь подосадовал Конжуков, — даже фары не выключают…
На крутом склоне холма, густо поросшего терновником, Дмитрий Данилович остановил усталую, взмокшую лошадь, притронулся к руке комиссара:
— Тут придется сойти. Ты, Миша, пока подожди меня.
Осторожно раздвигая колючие заросли терновника, он дважды спускался вниз, перетаскивая в землянку провизию. Лишь покончив с этим, тяжело дыша, сказал Конжукову:
— Пошли теперь вместе, Миша. Держись за мое плечо.
В землянке они зажгли фонарь, осмотрелись. На полу увидели плотно спрессованный слой сухой травы, сквозь который пробивались бледно-зеленые молодые стрелки. В углу стояла ржавая саперная лопата с коротким держаком и валялся такой же ржавый топор. С низкого, покрытого черной копотью потолка свисали космы паутины.