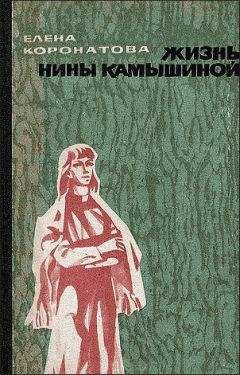— Я теперь понимаю, — сказала Нина, вспомнив прошлогоднее напутствие Петренко.
— Нет, ты еще не понимаешь, — Маруся не упрекнула, а как бы посочувствовала и, с несвойственной для нее горячностью, потребовала: — Дай слово, что, если тебе будет плохо, трудно, — ты мне сообщишь. Немедленно. Дай слово!
— Даю слово, — Нина потянулась к Марусе.
Они обнялись. Маруся, словно стыдясь, как она, вероятно, считала, недостойных комсомольца нежностей, — торопливо зашагала, постукивая каблуками ботинок о деревянные плахи тротуара.
Глядя вслед ее высокой, худощавой фигуре в защитной юнгштурмовке, Нина невольно подумала, что Маруся единственный на земле человек, который знает об их с Виктором любви, и единственный человек, с кем она может, не обмолвившись ни единым словом, вместе вспоминать его.
Снова хрипло и натужно прогудел пароход. Медленно развернулся. Высокий берег стал приближаться, замелькали цветистые платки женщин, юркие фигурки мальчишек.
Нина перешла на другую сторону палубы. Ей хотелось побыть одной.
За кормой вспенивалась бурливая вода. Низко кружились крупные чайки. Кто-то снизу сказал:
— Видать, рыбы много.
Солнце как бы влезло в тучу и в ней застряло: посредине красного шара — синий поясок! Занятно.
Вот и отчалили.
Оказывается, множество речек, баламутя воду, впадают в эту сильную реку. Никогда Нина не видела таких крутых и лесистых берегов, таких широченных плесов.
Когда-то она мечтала о путешествиях. Поездить, поплавать, посмотреть новые места. Это ли не счастье!
Еще день-два назад ей казалось, что уж теперь-то она не будет тосковать о доме, как тогда — по дороге в Лаврушино.
И вот тоскует. Почему-то жаль маму. При расставании у нее было виновато-печальное лицо. Жаль Мару — не такая уж она счастливая. Пусть наивная Натка верит в восторженные рассказы о красавце-женихе. Однажды Мара проговорилась: «У меня характер, а у него в сто раз хуже». А недавно Мара по секрету сообщила, что у отца на стороне есть вторая жена. «А ведь мама так болеет». Мара, презиравшая плакс, не могла сдержать слез. У каждого — свое.
У Натки есть тайна. Пока что о ней знают только мама и Нина. Натка с Юлей собираются поехать в Читу и поступить в фабрично-заводское училище. Решили получить специальность слесаря. Будут врастать в рабочий класс. Поразительно, что мама разрешила ехать в эту никому неизвестную Читу. Нина возмутилась, а Натка отпарировала: «Я хоть в город, а ты к черту на рога». Нина сказала: «Но я взрослая». Натка заявила — это ничего не значит. Во-первых, она комсомолка, а комсомольцы не боятся трудностей. А, во-вторых, Нина — это другое поколение. Последнее утверждение и рассмешило и обозлило Нину. Подумаешь — другое поколение!
Попробовала Нина поговорить с мамой.
— Если я не отпущу Натку — она убежит, — сказала мама.
Нина согласилась: «Да, убежит». А про себя добавила: «Убежит от Африкана».
Призналась себе, что, конечно, она, Нина, никогда бы не осмелилась в свои пятнадцать лет удрать из дома. Неужели правда — другое поколение?!
Только уж очень Натка легкомысленная. Как-то пожаловалась: «Ты, Нина, можешь меня презирать, но я каждый день в кого-нибудь влюбляюсь. Утром, правда, проходит, а вечером опять…»
…Нина поймала себя на том, что невольно улыбается. Раздумывая о Натке, принялась снова ходить по качающейся палубе. Удивительно приятно ощущать ногами, всем телом — движение. «Натке напишу, как приеду. Пора стать серьезней».
Постепенно мысли оторвались от дома и домашних и, как это обычно бывает в дороге, перенеслись на такое неясное будущее. Теперь она уже знала: будет чужое крыльцо, чужие двери, чужие окна и стены, к которым она постепенно привыкнет и обживет их, и станет называть их своим домом, пусть временным, но все же домом. Будут чужие люди, к которым она тоже привыкнет, а позже — поймет их и, возможно, по-своему привяжется душой, как привязалась когда-то к Мотре и Леонтихе; иных, может быть, и возненавидит, как возненавидела Мирониху, или будет бояться, как боялась Евстигнея. Будет отстаивать правду, бороться с подлостью — в этом, наверное, и заключается жизнь.
Виктор, конечно бы, с ней согласился. Ведь на деревянной пирамидке с красной звездой написано — «Он служил делу революции».
Нина подумала, что здесь, на пароходе, она все время мысленно возвращается и возвращается к Виктору. Эта мысль как бы приподняла ее. Неожиданное чувство охватило Нину. Ей казалось, что все сомнения навсегда отпали; уже теперь-то она сумеет разобраться в том, что хорошо и что дурно, за кого необходимо будет вступаться и против кого бороться.
Что-то радостное и в то же время тревожное пробудилось в ней. Было ли это ощущение того, что наконец-то она, как ей представлялось, поняла смысл жизни — ничего этого Нина не смогла бы для себя определить ясными и точными словами. Но на душе у нее было легко, щемящая грусть об утраченном — не омрачала ее.
Нина все ходила и ходила по палубе. Солнце завалилось за бор, распустив над ним дымчато-розовый павлиний хвост. Надвигался вечер. Павлиний хвост над лесом слинял. Странно: чем темнее становились берега, тем больше высветлялась река. Вот уже и левого берега совсем не видно, точно вода его поглотила, а правый берег будто надвинулся. Но что это за зеленый огонек качается прямо на воде? Да это бакен! Он указывает путь пароходу. Шумит, влажно дышит вода за бортом. Все это надо записать. Главный редактор сказал: «Все записывай впрок. Потом пригодится». Но первое, что она напишет, как приедет, письмо Петренко. Ей все-таки здорово повезло…
Кряхтит пароход. Вздрагивает под ногами палуба.
Огни на яру плывут мимо.
И зеленый огонек уже далеко-далеко позади.
Добровольное общество «Друг детей».