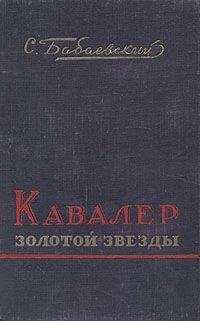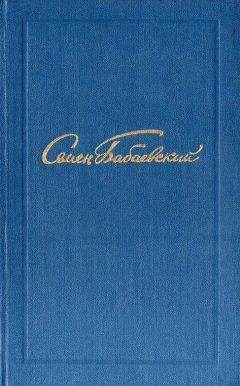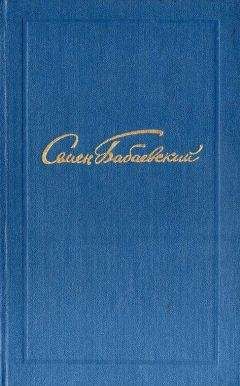— Ну, узнаю птицу по полету, — сказал Рагулин, когда родниковцы уже подъезжали к арке. — Ты погляди, какой шик! И что за канальи! Как же красиво едут!
Впереди, сдерживая взмыленных, горячих коней, гарцевали Иван Родионов и Никита Никитич Андриянов, а по бокам у них плясали на скакунах знаменосцы — красные стяги взвивались на ветру.
— Здорово булы, устьневинцы! — хриповатым басом приветствовал Никита Никитич, важно откинувшись на седле.
И не успели Родионов и Андриянов слезть с коней и поздороваться, как возле арки загремели колеса — тачанки подлетели, как птицы; на все лады заиграли гармони, поднялся шум, понеслись выкрики, припевки, разноголосый говор, а возле тачанки уже образовался круг и начались танцы.
— Да вы что, подпили малость? — спросил Рагулин у Никиты Никитича.
— Только еще собираемся! — ответил Никита Никитич. — Приготовлена у вас выпивка?
«Да ты, старый чертяка, дюже большой мастак выпить за чужой счет», — подумал Рагулин, но Никите Никитичу улыбнулся и сказал:
— Дорогие гостюшки, милости просим, все уже для вас приготовлено.
— Тогда тронули! — крикнул Никита Никитич. — По ко-о-оням!
Всадники сели в седла, приняли строй и шагом по два проехали под разукрашенной аркой. За ними с криком и свистом понеслись тачанки и линейки, и вскоре снова стало тихо.
— Вот оно, какая дипломатия, — с усмешкой сказал Рагулин. — Еще и с седла не слез, а уже о вине осведомился.
— Веселая станица — что тут скажешь! — заметил Тимофей Ильич.
— Одно слово — Родники, — рассудительно добавил Прохор.
Через несколько минут прибыли на четырех грузовиках беломечетенцы, поздоровались, постояли немного у арки и уехали. Затем проследовали — кто на лошадях, кто на машинах — делегаты Краснокаменской, Рощинской, Яман-Джалги. Мелкими обозами проехали хуторские колхозы. Когда солнце поднялось высоко, на двух грузовиках прикатили марьяновцы. Кривцов, возглавлявший делегацию, поздоровался с Саввой, осведомился, на какой час назначен пуск станции, будет ли митинг, приглашены ли гости из других районов и приедет ли Бойченко. А тем временем из кузова торопливо выскочил Ефим Меркушев и, как сын к отцу, подошел к Рагулину.
— От души желаю вам, Стефан Петрович, — волнуясь, говорил Меркушев, — чтобы эта Золотая Звезда была не последней.
— Поживем — увидим, — ответил Рагулин.
Марьяновцы поговорили и тоже уехали, и уже ничего особенного не случилось у въезда в Усть-Невинскую.
Правда, еще проехал на «эмке» Кондратьев с женой, а следом за ними — грузовик с духовым оркестром, да промчался на газике Рубцов-Емницкий, прихватив с собой мрачного и насупившегося Федора Лукича Хохлакова.
— И мой задушевный дружок пожаловал, только на лицо дюже тоскливый, — насмешливо проговорил вслед Рагулин.
Постояв еще немного, устьневинцы покинули арку. А в этот самый час вблизи гидростанции, на обширной поляне, раскинулся такой шумный табор, собралось столько народу, машин, лошадей, тачанок и линеек, что даже на самой большой ярмарке и то их бывает меньше; над Кубанью поднялся такой разноголосый говор, шутки, смех, щебетанье детворы, что и на свадьбе ничего подобного не увидишь и не услышишь, — повсюду разливались такие протяжные песни, а гармонисты с таким старанием припадали к мехам и так искусно перебирали пальцами, что даже заглушали плеск падающей на сбросе воды; по всей поляне пестрело такое обилие знамен, женских платков и косынок, чубатых голов, кубанок с разноцветными верхами, букетов цветов, — словом, было так пестро и шумно, что передать эту картину в натуральных красках было бы не под силу даже самому одаренному живописцу.
В довершение всего на бугре, невдалеке от канала, чернели пузатые десятиведерные котлы, врытые в землю и охваченные дымом и пламенем; возле них хлопотали кухарки, не обращая никакого внимания на то, что делалось там, на берегу реки. В сторонке в шесть рядов протянулись наскоро сбитые из досок и укрытые скатертями низенькие столы со скамьями, а чуть поодаль, прямо на свежей траве, горкой возвышались буханки хлеба, с коричневой, в меру поджаренной коркой.
Прошел еще час или два, когда к дверям машинного отделения подъехал грузовик с обитым кумачом кузовом — импровизированная трибуна стала на свое место. Митинг состоялся перед зданием гидростанции, под непривычный шум падающей воды. И пока выступали с речами Бойченко и Кондратьев, пока Сергей бегло набросал картину выполнения пятилетнего плана и назвал фамилии лучших строителей, пока выступали ораторы из соседних станиц, играл оркестр и много раз по реке шумели аплодисменты, — на столах появились вино и яства. Гости были приглашены к обеду…
Как повелось на рытье канала, на сооружении электролинии, так было и за столами: что ни станица, то отдельный стол, так сказать — «свой участок», и только марьяновцев посадили на почетном месте, а с ними сели Бойченко, Кондратьев с женой, Сергей с Ириной (пусть, мол, все люди посмотрят, какая у него жена), Рагулин со своей Савишной, Тимофей Ильич с Ниловной, Прохор Ненашев, Виктор Грачев, — он хотел посадить возле себя и Соню, но та покраснела и убежала к усть-невинскому столу. Тогда рядом с Виктором умостился Семен Гончаренко, молчаливый и сосредоточенно-строгий (он только вчера, после пробного пуска турбины, принял гидростанцию и еще не привык к своему новому положению).
Пока люди усаживаются и вполголоса разговаривают о том о сем, о чем обычно говорят за обедом, когда еще стаканы только налиты вином, пока Сергей упрашивает Федора Лукича Хохлакова сесть с ним рядом, а Федор Лукич говорит, что ему все же лучше сесть с рощенцами, пока Рубцов-Емницкий мечется возле грузовика, с которого снимают какие-то ящики, — мы тем временем окинем столы хотя бы беглым взглядом… Чего-чего только на них не было, и все в таких щедрых порциях, что посмотришь и невольно скажешь: «Да, народ здесь живет в достатке!» Если подана баранина — то кусками в килограмм весом; если стоит жареная картошка — то облитая жиром и в огромных мисках; если подрумяненные гуси или куры — то расставлены они по всем столам; если мед — то в черепяных чашках, хоть зачерпывай ложкой; если подан хлеб — то непременно в ситах; если редиска — то красная стежка так и тянется из конца в конец; если молоденькие огурчики — то полные ведра… Еще следовало бы обратить внимание на вина, уже разлитые по стаканам и кружкам, но тут поднялся Прохор Ненашев, взял узловатыми короткими пальцами кружку, обвел сидящих строгим взглядом и сказал:
— Люди добрые! Строители и гости! Старинный обычай на Кубани так гласит: не будет сладким вино и не ощутим мы вкуса пищи, ежели перед тем, как приступить к обеду, не сказать слово…
Все умолкли, прислушались, а Никита Никитич, уже нацелившись на баранью ляжку, подумал:
«Эх, Прохор, Прохор, и до чего ж ты охотник поговорить! И тут речи — мало тебе было митинга, только зазря время терять…»
— А слово мое будет короткое, — продолжал Прохор, сжимая пальцами кружку, боясь, чтобы не расплескалось вино и чтобы никто не заметил, как дрожит его рука. — Поглядите сперва вон в ту сторону, на этот красивый домик, что приютился себе под кручей. Поглядите на провода, что убегают во все стороны! Чьих это рук дело? Наших рук и наших помыслов… А прислушайтесь! Эге-ге-ге! Шумит, не умолкает Кубань, и хоть с детства мы ее слышали, привыкли к ее песне, а только ныне песня у реки иная, потому что падает вода с высоты небывалой… Песня та новая, как и вся жизнь наша… И вот я скажу ради такого случая: думалось тем, кто в сорок втором году топтал, паскудил нашу землю, что мы уже не подымемся до той высоты, на какой допрежь были, что не избавимся после войны от беды-лиходейки. Прошло с той страшной поры немного времени, а мы не только поднялись, но и расправили плечи, и такой взяли разгон, какого еще никогда не было…
— Прохор Афанасьевич, — хитро жмурясь, сказал Никита Никитич, — речь твоя правильная, одобряю, а только взгляни, где солнце… Закругляйся!
— Погоди малость, Никита Никитич, солнце от нас не уйдет, а потому и не торопи меня закругляться. — Прохор погладил усы. — Днем нам будет светить небесное солнце, а ночью — свое! А теперь, люди добрые, поглядите сюда, на угощение. На столах — полная чаша. Было это до войны — и сызнова есть, будет и никогда не переведется, потому как жизнь свою мы поручили нашей дорогой коммунистической партии. — В этом месте речь Прохора была прервана аплодисментами, и когда снова наступила тишина, Прохор продолжал:- Потому и выпьем мы первую чарку за свою советскую власть, за коммунистическую партию!
Все встали, выпили, и обед начался.
Ели неторопливо, не так, как обычно едят на работе во время обеденного перерыва, и то поглядывали на гидростанцию, то на солнце, ибо знали: самое значительное событие, ради чего съехались сюда люди и уселись за столы, произойдет лишь вечером. Почему вечером, а не днем? Такой вопрос никому даже в голову не приходил, — каждый понимал, что именно вечером, когда темнота укроет степь, должны вспыхнуть по всем станицам огни… Пусть тогда весь мир смотрит, что делается в верховьях Кубани! И потому, что уж очень всем хотелось, чтобы быстрее наступила ночь, день, как бы назло, тянулся удивительно медленно, а солнце точно остановилось в низком полдне и уже не хотело двигаться ни взад, ни вперед.