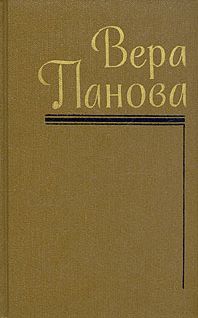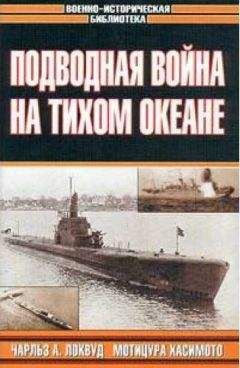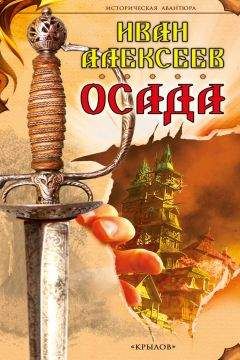Рукопись я, однако, отказалась забрать от "Знамени" - у меня ведь для этого не было никаких оснований.
Через два-три дня я душевно простилась со "Знаменем", причем Вишневский назвал меня "большим и светлым талантом", и поехала в Ленинград.
С нетерпением ждала я одиннадцатого номера "Знамени", где должна была появиться "Кружилиха". Что ж, пришел и этот день.
Пришел и другой, когда "Литературная газета" открыла на своих страницах дискуссию о моем романе.
Сразу ясно было, что задача дискуссии - разгромить "Кружилиху". Большинство участников дискуссии обвиняло меня во всевозможных грехах и промахах. Повторялись все обвинения Вишневского. Много писалось дельного, но были и глупости вроде того, зачем-де Листопад не ходил с женой в театр.
А за этим потянулись разные библиотечные кружки - они готовили читательские конференции, посвященные разгрому "Кружилихи", со всех сторон меня стали звать на эти конференции. Я не шла, полагая, что через какое-то время устроители конференций скажут мне спасибо за то, что я не пошла. Помню, как усердно звала меня заведующая библиотекой завода "Электросила", заманивая тем, что они подготовили очень полезные для меня читательские выступления. Я уже кое-что понимала в этих делах.
В те же дни я получила несколько анонимных писем. Неизвестные доброхоты посылали мне вырезку из "Крокодила" - пародию А. Раскина на "Кружилиху".
Все это закончилось, когда в газете "Культура и жизнь" появилась статья в защиту "Кружилихи". Мой роман не дали уничтожить. Он вышел отдельным изданием в издательстве "Советский писатель". Далее он переиздавался почти так же много, как "Спутники", потом стал выходить в разных странах.
Но за то время, что он находился в центре внимания дискуссии, на нашу семью обрушилось горе.
Моя бедная мамочка после долгой тяжелой болезни скончалась в Комарове 2 января 1948 года. 4 января мы ее похоронили на Шуваловском кладбище, а 6 января Союз обязал меня быть в Москве на обсуждении "Кружилихи".
Обсуждение происходило в том же зале с красивой деревянной резьбой, где я когда-то была на пленуме. Обсуждение заключалось главным образом в том, что выходили участники дискуссии и на словах повторяли то, что они писали в обвинение роману. Лишь два-три человека решились произнести несколько слов в защиту "Кружилихи". Я видела, как бледный В. А. Каверин под аккомпанемент этих грозных речей вышел из зала. Видела сидевшего у стены Вишневского и ждала, не выступит ли он в защиту романа. Но он не выступил. Когда заседание кончилось, я подошла к нему и глупо сказала:
- Что же вы, Всеволод Витальевич, меня не поддержали?
Он ответил очень резонно:
- Я напечатал ваш роман, что больше я мог для него сделать?
Поддержали другие. Борис Горбатов подошел ко мне и сказал:
- Все равно вы написали роман, который будет жить.
А милая моя Туся Разумовская шепнула мне:
- Вера, я тебе предсказываю премию за "Кружилиху", запомни мое предсказание.
Я ей не поверила, но она оказалась права: Совет Министров присудил мне премию.
После московского обсуждения совершенным сюрпризом было обсуждение в Ленинграде.
Я не хотела его, мне надоело слушать обвинения, порою смехотворные, порою несправедливые, к тому же в Ленинграде все писатели были уже как бы своими, а перед своими быть заушаемой особенно горько; но избежать обсуждения в своем коллективе было нельзя, в назначенный вечер я была в Доме писателя на улице Воинова. В зале и гостиных было много народу, своего и постороннего.
Я сидела у круглого стола, а против меня сидел докладчик - критик Павел Петрович Громов, перед ним лежали листки с тезисами, я смотрела на него и думала: "Что-то ты обо мне сейчас скажешь, Павел Петрович?"
Я тогда была еще заражена предрассудком, утверждавшим, будто Москва всем городам задает тон и если она чему-нибудь сказала "нет", то по всей стране скажут то же. Другой предрассудок говорил, что один в поле не воин; и то и другое, как я потом познала на опыте, - совершенная неправда: и мнения у людей свои собственные, и высказывают их люди откровенно, и один в поле очень даже воин, если выходит убежденно и бесстрашно.
Тогда же, ослепленная предрассудками, я даже не очень слушала П. П. Громова, когда он заговорил: так я была уверена, что он дудит в ту же дуду, что московские критики, нападавшие на "Кружилиху". И вдруг, вслушавшись, выяснила, что он говорил вовсе даже и не о "Кружилихе", а о "Василии Теркине" Твардовского.
"Что это значит? - подумала я. - Неужели разговор о "Кружилихе" отменен, а меня об этом даже не известили?"
А Громов внезапно для меня стал сопоставлять Теркина с моим романом и наговорил в адрес романа множество хороших слов, таких хороших, что мне стало ясно - в Ленинграде обсуждение пойдет доброжелательно.
Он понял, что я хотела сказать в "Кружилихе", умница Громов. Он цитировал из романа те самые места, которые процитировала бы я, если бы вздумала защищаться от нападок. Цитировал много, не жалея времени.
Кроме профессора Плоткина, все выступали с похвалами "Кружилихе", в том числе А. Б. Никритина и милый мой М. Э. Козаков. А если нет-нет раздавались отголоски той "дискуссии", то Громов, Л. Левин и Б. Костелянец, усевшись в ряд, с места давали выступавшему дружный и остроумный отпор. Так что обсуждение в Ленинграде не расшатало, а укрепило мои писательские позиции.
Спустя несколько лет, после нападения критиков на мой роман "Времена года", Ю. Герман сказал:
- Панова каждым новым своим произведением делает ставку ва-банк, отсюда ее популярность.
Должна сказать, что ни разу я не делала этой ставки, я просто писала, что мне хотелось и как хотелось, а потом приходили критики и мне же "объясняли", что я хотела этим сказать, как будто они могли заглянуть в мои мысли. Думаю, что и всегда в литературе было так и что отсюда такое нагромождение ложных оценок и дутых репутаций. Думаю, что до сих пор в этой области не сказано ничего более разумного, чем пушкинские слова: "Ты сам свой высший суд". Наиболее справедливо было бы довериться совести самого писателя. Многих литераторов я перевидала - богато одаренных и малоодаренных, неуверенных в себе и безмерно самовлюбленных, но почти не встречала таких, которые отстаивали бы свои неудачные произведения. Тут есть какая-то точка, за которую ни за что не перейдет уважающий себя человек. Бывали, конечно, исключения, но их мало. Писатель всегда знает, хорошо или худо он написал. И очень редко во имя выгоды он отступит от своих художнических взглядов и назовет черное белым. Те, кто о писателе думает иначе, либо заблуждаются, либо клевещут сознательно.
В романе "Кружилиха" среди многих действующих лиц есть целая группа мальчиков, работающих на производстве.
Впервые я увидела этих мальчиков в железнодорожных мастерских, куда редакция газеты "Сталинская путевка" направила меня за материалом для очерка. Я знала, что ушедших на фронт бойцов заменили на производстве женщины и дети нашей подлинно богатырской Родины, знала, что даже на минном заводе есть юные рабочие, что они не только бесстрашно делают мины, но и возят их по претрудной дороге, пренебрегая опасностью для жизни, так же мужественно, как пренебрегали ею советские воины на фронтах, лицом к лицу с фашистскими танками, под ливнем осколков и пуль.
Все это мы, люди тыла, знали, но тут, в железнодорожных мастерских, я впервые воочию увидела эти худенькие лица, эту мужскую деловую сосредоточенность за работой, эти детские руки в копоти и масле, держащие инструменты. А тут еще мастер, водивший меня от станка к станку, рассказал мне о том, как этим ребятам, его ученикам, попалась откуда-то однажды книга А. Дюма "Граф Монте-Кристо", как они ее читали по очереди, устанавливая очередь жеребьевкой, и до того увлеклись и отвлеклись, что стала страдать трудовая дисциплина и он, мастер Корольков, отобрал у них книгу. И как-то сразу я приняла решение: обязательно ввести в роман "Кружилиха" таких вот юных патриотов и этот эпизод с книгой, и даже родились слова "дети завода", ставшие затем названием одной из глав "Кружилихи". А впоследствии этот мотив юношеского героизма прозвучал и в рассказе моем "Володя", написанном в 1959 году, и в рассказе "Валя", где героиня занимает рабочее место матери, погибшей в первый год Великой Отечественной войны при бомбежке, и в фильме "Вступление", сделанном режиссером Игорем Таланкиным по этим рассказам.
В процессе доработки романа в круг "детей завода" вошли Костя Бережков и передовая юная работница Лидочка. Первого, талантливого рационализатора, я нашла на металлозаводе. Вторая работала на конвейере и давала высочайшие производственные показатели, за которые была награждена кроме всеобщих восторженных похвал орденом "Знак Почета". Именно по ордену я отличила эту белокурую девочку с длинными локонами, в нарядном светлом платьице. Отличив, стала о ней расспрашивать. К моему удивлению, отзывы о ней были на редкость противоречивы. Одни ей удивлялись, расхваливали, превознося чуть не до небес, другие же, оставляя без внимания и грамоты, и орден, говорили о ее эгоизме, черствости, пренебрежении к людям, работающим хуже, чем она. Из всех этих пылких устных характеристик я и складывала характер Лидочки, за который меня так сурово осудили критики по выходе романа в свет (он был напечатан в журнале "Знамя" в 1947 году).