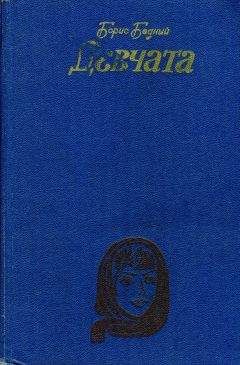— Что за чудо, — говорю, — Оришка… Где в них комбайнер сидит?.
— Микита, разве ты не здешний? — пожимает Оришка плечами. — Эти машины по радио управляются.
Ах, вот оно что!
Идем дальше. Начались необъятные зеленые пастбища. Отары тучами плывут — тысячи тонкорунных асканийских мериносов.
— Погоди, — кричу Оришке, — разве ты не узнаешь? Это ж наша Таврия!
Может, и овец тут радио пасет? Нет, чабан все-таки есть, маячит в белом костюме, ровно дачник. Подхожу ближе — и кого я вижу? Богдан, мой средненький, забойщик из Краснознаменного!
— Ты, — говорю, — Богдан, уже овец пасешь?
— Моя, — говорит, — очередь.
— Очередь! А кто же марганец долбит?
— Как кто? — удивляется сын. — Сегодня там товарищ Мелешко, Логвин Потапович. По графику как раз ему выпало спускаться в шахту.
Странные, но какие справедливые порядки!
Расспрашиваю Богдана, где он спасается со своими белоснежными рамбулье, когда, к примеру, налетает черная буря.
— Какая черная буря? — удивляется сын. — Мы о такой и не слыхали.
— Ты брось, — говорю, — свои шутки, Богдан. Смотри, как загордился! Мало ли ты сам их пережил, черных бурь? Когда тысячи тонн распыленного грунта взметаются вместе с посевами в воздух, заслоняя солнце; когда сухой буран сбивает человека с ног, заносит песком молодые посадки до самой кроны; когда в наших южных городах весь день не выключают электричество, потому что от черной метели темнеет на улицах и в учреждениях… Забыл, что ли?
— Нет, не припоминаю, — оправдывается Богдан, — хоть бейте меня, батько, не припоминаю.
Что ты с ним поделаешь? Не станешь в самом деле драться, когда он, во-первых, взрослый, а во-вторых, — на таком посту.
Двигаемся дальше, бредем полями хлопка, коробочки на нем лопаются (солнца много!), ослепительно белеет.
— На мне блузка батистовая, — хвастается Оришка, — как раз из этого хлопка.
Дивные дива поднимаются вокруг!.. Впереди радугой перекинулся мост через какую-то речку, — легкий, кружевной, будто сплетенный из серебряных нитей.
«Речка, да еще, видно, широкая… Откуда тут, — думаю, — речка появилась? Знаю я Таврию, пешком ее в молодости исходил. Не было здесь речки!»
— Ведь это новый канал, — спокойно подсказывает мне Оришка.
Вот она, животворная артерия степи! Вынырнула из-за горизонта и, пересекая степь, опять уходит за горизонт. Путь канала определить не трудно, он обозначен полосами садов и виноградников. Когда б вы только видели это зрелище… Сколько глаз обнимает — красуются вдоль канала рослые, взлелеянные сады, круто изгибаются ветви, плоды свисают густыми гирляндами — сочные, краснощекие, будто налитые розовым светом.
— Видишь, — говорю, — Оришка, какие сады поднялись? А ну, угадай, бабунька, что это за сорт?
— Да это ж твое, дедуня, «Сталинское»!.
Дальше не пошел. До самого утра бродил я в тех садах, шутил с тамошними девчатами (очень похожи на моих!), пока не проснулся.
Хвалюсь Оришке:
— Ты знаешь, где мы с тобой побывали? Пошли, — говорю, — и пошли по небесной дороге, дошли до солнца, прошли сквозь него и очутились по ту сторону… Наверное, и с земли было видно, как мы с тобой спокойно входили в солнце.
— А по ту сторону оно тоже светит? — серьезно спрашивает Оришка.
— Светит, бабуня, и греет, такая уж его природа — всеми краями светить… А какая там жизнь, Оришка! Вечное лето, вечный мир, и круглый год сады плодоносят…
Оришку это даже не удивило. А может, она и права: разве не к тому идет?
Опять славное выдалось утро. Выйдя во двор, я сразу определил: тихий, погожий будет день (тихие дни у нас бывают не часто, непрошенные гости — суховеи еще заскакивают то и дело из степи).
Свежий весенний воздух щекочет, бодрит. Ранние дымы тянутся из труб вверх, стоят над всем селом высокими стройными столбами, будто выросла за ночь над нашей Кавуновкой высокая белая колоннада, поднялась к небу, мягко подпирая по-весеннему легкую небесную голубизну. Восток алеет, разгорается, деревья стоят неподвижно, в сережках росы. Скворцы уже прилетели и, чтоб разбудить моего Федю, нарочно подняли под окном радостную возню. Пора, хлопец, вставай, выноси нам скорей свою разукрашенную скворешню!
Синявка наша вышла за ночь из берегов, затопила часть моего сада.
— Глянь, — кричу Оришке в окно, — какой на огороде водоем образовался — хоть каналы в степь отводи!
На всякий случай надо выкопать магонию, а то ее еще зальет. Это подарок Степана Федоровича Миронца — вечнозеленая дикая магония. Привез в прошлом году из Степного, посадил возле хаты. «Ну-ка, — думаю, — выдержит ли зиму в открытом грунте?»
Выдержала, как видите, браво зеленеет.
Выкапываю, а Оришка проходит поблизости, спрашивает:
— Зачем ты ее выкапываешь?
— Разве ты не догадываешься, бабуня? В наш большой сад пересажу.
— Другие в дом несут, а ты все из дома норовишь.
— Что ж, — говорю, — Оришка, разве наш колхозный сад — не мой дом? Эх ты, а еще в героини метишь!..
— Не терзай ты меня, Микита! Разве я тебе сказала: не выкапывай, не уноси? Сказала, а? Что ж тебя задело?
— Могла б и сказать, если б не остановил!
— Остановил! Он меня остановил! Мечу и буду метить!.. А сам ты разве в лауреаты не метишь?
Вот смола! Сам не знаю, чем мне эта смола нравится (а нравится — если день не вижу, уже и соскучился).
— Магония! — не утихает Оришка. — Плакать буду по ней горько! Ферму мою не выкорчуешь, а остальное хоть всё выкопай и унеси! Перетаскивай деревья на остров, тащи туда хлев, тын, все тащи! Возьми и меня впридачу, отнеси и посади на своем острове!
— Боюсь! Посажу, а ты еще подрастешь, Оришка. Что мне тогда делать?
— Найдешь, что делать! Теперь ведь находишь!
Пошла, рассуждает на ходу так, что скворцы шарахаются.
Осторожно беру магонию на руки, с кистью корня, с влажной пахучей землей. Пусть привыкает магония в моей большой усадьбе, там ей будет вольготнее.
Какая от нее польза? — спросите. Пока никакой, а позднее, возможно, пригодится, как дичок-прививка, для работы с цитрусами при поисках или воспитании гибридов.
Не всегда же цитрусам сидеть в траншеях, как бойцам перед атакой. Придет время, бросим их в открытую атаку, выведем их — и в условиях Украины — на открытые грунты, развернется по всему югу наше вечнозеленое войско! Станут золотые не вянущие цитрусовые рощи привычными для нашего глаза, придадут еще больше яркости и красоты нашим живописным украинским пейзажам.
X
Справедливость торжествует, и в этом нет ничего удивительного. Такова уж диалектика нашей жизни. В свое время и мне кое-кто немало крови попортил, но я всегда говорил себе:
— Не падай, Микита, духом. Твое дело верное, ты честно работаешь на благо народа, значит рано или поздно, а твой, Микита, будет верх.
И, как правило, мои прогнозы сбывались, законы развития оказывались моими союзниками.
Да что я! Возьмите вы моего друга, Степана Федоровича Миронца… Теперь он директор станции и кандидат сельскохозяйственных наук, а я его знаю, когда он еще только приехал к нам из института простым агрономом. Молодой был, темпераментный, худющий — видно, как сердце бьется. Не понравилась кое-кому его энергия, его увлечение Мичуриным и дружба с Лысенко (с которым они, кстати, вместе учились в институте). Миронца не какие-нибудь столярчукусы покусывали, выступили против него известные в то время зубры. Он-де и карьерист, и растратчик, и политикой подменяет подлинную науку… Так насели на молодого ученого, что если бы где-нибудь в других условиях, — хоть вешайся. Но Миронец, чувствуя за собой силу и правоту, никому не смотрел в зубы, смело выступал даже против своих учителей, седоголовых авторитетов, которые учили его в институте облучать икс-лучами чечевицу и искать гены под микроскопом…
Как-то в самые трудные для него времена признался мне Степан Федорович:
— Вот меня обвиняют, Микита Иванович, в карьеризме, в неуважении к своему педагогу — авторитетному профессору… Предо мной на выбор два пути: считаться с его авторитетом или считаться с народом, с его требованиями, с его интересами. Я знаю, что профессор осуждает мое поведение, и мне больно, что он считает меня неблагодарным учеником… Вот, мол, старался, воспитывал его, возлагал на него надежды, а он идет против меня. Ведь профессор думает, что воспитывал меня он один. А меня воспитывали еще комсомол, партия, народ, другие ученые, и я рад, что их воздействие оказалось сильнее влияния формальной, мертвой науки!
Смелый, воинственный товарищ Миронец!
Помню, прибыл в те годы один пузатый авторитет из Наркомзема и тоже не поддержал молодого ученого, навалился на него. Собрал широкое совещание на Опытной станции, созвал окрестных агрономов и меня туда же.
Отчитывается Степан Федорович о работе станции, а насупленный авторитет, развалившись за столом, то и дело реплики ему: