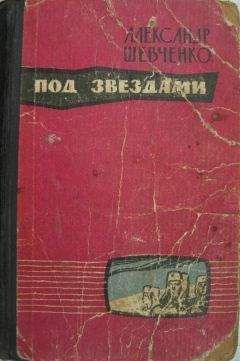— Я пошел, Ромадин, а ты займись еще со своей группой!
Солдаты иронически и насмешливо оглядывали Балуева, своего бывшего товарища по оружию.
Лицо его, лоснящееся от пота, и телогрейка были перепачканы сажей от беспрерывной возни у костра. На шее болтался шарф линялого красного цвета. Балуеву казалось, что этот шарф выгодно отличает его от других солдат, и он никогда не расставался с ним.
— Как, Василий Иванович, живешь-можешь?
— Ты что это весь в саже вымазан? В трубочисты, что ли, записался?
— Как успехи на кулинарном фронте?
— Живем помаленьку! Воевать так воевать — пиши в обоз! — осклабился Балуев, обнажая большие крепкие зубы, и стал угощать солдат папиросами.
— Ишь ты, разбогател — папироски душистые покуриваешь! — съязвил Ромадин.
— Махорка солдатская ему горло дерет! — поддержал его Береснёв.
— Бросьте, ребята, — обиделся Балуев, — вот с места не сойти — лейтенант Подовинников пачку дал — он ведь не курит! Ну, ладно, побегу, заболтался я с вами...
Тут Ромадин увидел старшину роты Болдырева, который переходил от одной группы солдат к другой. Ромадин поспешно встал, швырнул недокуренную папиросу и негромко скомандовал:
— Закругляйся, кончай курить! Становись!
Солдаты стали торопливо выстраиваться, но Болдырев уже заметил сидевших вокруг костра солдат и, подойдя к ним, строго сказал:
— Почему сидите? Чем надо заниматься по расписанию — анекдотами или боевой подготовкой?
У Болдырева сухое, гладко выбритое лицо, и видно, как под тонкой кожей подрагивают мускулы; серые неподвижные глаза смотрят в упор, с беспощадной строгостью. Одет Болдырев с иголочки, с редким на фронте щегольством — это придает ему подчеркнуто молодецкий, бравый вид. На нем ватник, туго перетянутый новеньким поясным ремнем с портупеей, черные чесаные валенки, голенища валенок дважды подвернуты вниз и обнажают туго обтянутые синими бриджами крепкие икры; на голове, на самом затылке, чудом держится ушанка с плотно прилаженными наушниками и плоским верхом, похожая на кубанку; из-под шапки низко спущен на лоб кудрявый светлый чуб; на правом боку у него деревянная кобура с громадным пистолетом какой-то иностранной марки, на левом — немецкий штык в чехле; для чего ему надобен штык, трудно сказать: пользуется им Болдырев разве что для нарезки сала и хлеба солдатам.
Болдырев недавно назначен старшиною, до этого он был помкомвзводом у Подовинникова. Но, переменив службу, он никак не может отделаться от привычек боевого сержанта и при выдаче продуктов чувствует себя, как в рукопашной схватке. Службу он знает до тонкости, порядок в роте держит твердый, и солдаты считаются с ним не меньше, чем с командиром роты. Правда, на новой должности Болдырев приобрел и новые привычки: необычайную внимательность к своей внешности и строгую, доходящую до педантизма, требовательность к солдатам.
Болдырев не стал слушать объяснений Ромадина и сразу же принялся за осмотр оружия. Он придирчиво щелкал затворами, проверял стволы на свет и нещадно ругал тех, у кого находил грязь или ржавчину.
У Матвеичева затвор автомата плохо выбрасывал гильзу, и Болдырев уничтожающе процедил сквозь зубы:
— Ты что — собираешься стрелять из своего автомата или же орудовать им вместо палки? Давай сюда отвертку!
По своей профессии слесаря Болдырев хорошо разбирался в механизмах и, повозившись несколько минут, вернул автомат Матвеичеву.
— Пружина ослабла! Теперь все в порядке — и смотри мне — чтобы, как часы, работал затвор! Такое замечательное оружие — и до чего довел!
Покончив с оружием, Болдырев принялся осматривать одежду солдат. Его внимание привлекли валенки Липатова:
— Что за валенки на тебе? Ты же новые получил!
Липатов стоял навытяжку, опустив руки по швам; и робко оправдывался:
— Вы мне подшитые дали, товарищ старшина...
— Врешь, я помню, кому подшитые давал! — закричал Болдырев. — Да и все равно — должны быть армейского образца, целые, а это что за рванина?
— Поменялся я тут с одним, выпили пол-литра вдвоем... Да ты брось, не кричи, жив буду — новые достану, а убьют — и этих не надо будет...
Тебе не надо, а мне надо! Умник какой нашелся— казенное имущество разбазаривать! А тут отвечай за всех! Там как хочешь — живи или умирай — дело твое, а мне чтобы завтра новые валенки были — за тобою новые числятся! Придешь, доложишь!
Закончив осмотр, Болдырев сказал серьезно и торжественно:
— Всем приготовиться к общему построению. В шестнадцать часов собраться к ротной землянке с оружием, в полном боевом. Кому надо побриться, подворотнички пришить — чтобы все было в порядке!
Поучения Болдырева задели самолюбие Ромадина: в качестве помковзвода он отвечал за порядок во взводе.
— Ясно, товарищ старшина! — нетерпеливо перебил он его и вызывающе оглядел солдат: — Второму взводу много говорить не надо!
Солдаты вытянулись под взглядом Ромадина. В этом обнаружился тот «местный» солдатский патриотизм, который проявляется во всем: каждый солдат считает свою роту, свой взвод, свое отделение лучшими во всей армии, а своих командиров — самыми храбрыми и умными.
— А вещмешки, противогазы брать? — спросил Матвеичев, опасливо поглядев на Болдырева узкими глазами.
— Сказано — в полном боевом, все забирать! — резко ответил Болдырев, рассерженный недогадливостью Матвеичева. — Помкомвзводам после построения получить патроны и раздать, чтобы у каждого был полный боекомплект!
Затем, помолчав, добавил:
— В бою патронов не жалейте — боеприпасов хватит. Такой огонек дайте, чтобы фашистам жарко стало! — Но тут же спохватился: «Им скажи только — начнут палить зря, патронов не напасешься!» — Но и попусту, в белый свет, пулять нечего, патрон — государственное имущество, денег стоит!..
Болдырев пошарил в кармане, но, не обнаружив табаку, попросил у солдат закурить. Хотя он только что строго отчитал едва ли не каждого, к нему со всех сторон потянулись пестрые ситцевые кисеты с табаком, самодельные портсигары из алюминия и целлулоида — изделия солдатского ремесла — и просто жестяные банки; каждый расхваливал аромат и крепость своего табака. Федя Квашнин достал из костра тлеющий уголек и поднес его Болдыреву, перекатывая на руках.
— Брось, руки сожжешь! — крикнул ему Болдырев.
— Ничего им не сделается! — и Федя широко развернул темную узловатую ладонь труженика с толстой, твердой кожей, покрытой мозолями и ссадинами.
— Крокодилова кожа! — засмеялся Береснёв.
Болдырев, с наслаждением затянувшись злым махорочным дымом, сразу смягчился. «Хорошие ребята в роте, а смотреть все же надо за ними, — думает он, — отпустишь, дашь послабление, — так и пойдут беспорядки...» — Распрощавшись с солдатами, он не спеша направляется в третий взвод.
Солдаты разобрали лыжи, составленные пирамидой под сосною, и разошлись по землянкам. У костра осталось несколько человек, чтобы засветло почистить оружие. Они сидели кружком, изредка перебрасываясь словами. Каждый занят своим делом, а еще больше — своими мыслями.
Это были мысли о завтрашнем сражении, о себе, о своем месте в страшно сложной и удивительно многообразной жизни, обо всем, что связывает человека с этой жизнью: о семье и близких, о Родине и ее врагах, о своем долге. Обо всем этом хотелось подумать спокойно, чтобы идти в бой с ясной и твердой душой.
Федя Квашнин, в полушубке нараспашку, в шапке, сдвинутой с широкого лба, закусив в увлечении губу, с выражением деловитой озабоченности чистит ствол ручного пулемета.
Рядом с Федей — Береснёв, он посасывает короткую обгоревшую трубку с самодельным ивовым мундштуком и неторопливо помешивает снег в котелке. Временами он что-то произносит вполголоса — то ли говорит с собою, то ли напевает.
Липатов и Аспанов уселись на одном бревне.
На красивом, нежном, как у девушки, лице Липатова сосредоточенное, грустное выражение; он курит, жадно и глубоко затягиваясь. Аспанов держит в коленях горстку блестящих автоматных патронов и набивает ими магазин, заталкивая большим пальцем по одному в отверстие диска. Лицо его с округлыми, еще не определившимися чертами сейчас напряженное и беспокойное.
Ромадин, поставив винтовку на носок валенка, усердно натирает ее промасленной тряпкой. Замыкает круг Молев, помкомвзвода-один. Он неподвижно смотрит перед собой, сощурив глаза, словно вглядываясь во что-то далекое, едва различимое.
Вечереет.
Надвигающиеся сумерки под шатрами мохнатых елей плетут легкую сиреневую паутину. В прогалину виден кусок светлого еще неба, исчерченного полосами багрово-красных облаков. Лес ровно и глухо шумит, раскачивая высокие вершины. Дым от костра медленно поднимается тонкой голубой струйкой и тает среди ветвей. К вечеру мороз усиливается, в чистом холодном воздухе звуки слышатся ясно и далеко: и звонкие голоса солдат, и ржание лошадей, и завывающий, со свистом, шум автомобильного мотора.