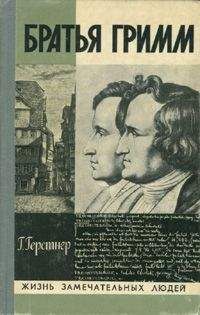— Зачем?
— Ты будешь курить, а я думать.
Они уселись на подножку машины, и Веня спросил:
— Ты какую газету выписываешь?
— Вечернюю.
— Зря. Это газета для пенсионеров. Выписывай «Пионерку», там советы на все случаи жизни.
Сёмка поправил кепку, на которой Веня задержал свой взгляд, и опустил голову.
— Через пару часов ты будешь в столовой пить чай без лимона, — сказал Веня.
Сёмка молчал.
— Мы перетащим твои электроды в мой кузов, и вся любовь. А за машиной они сами приедут. — Веня посмотрел на часы, которые выиграл у Филина. — Уже седьмой час. Будем считать, что утреннюю зарядку сегодня мы сделаем на полгода вперёд.
— У меня четыре с половиной тонны, — с сомнением произнёс Сёмка.
— Значит, на каждого по две с четвертью, — улыбнулся Веня.
Сёмка нахмурился и молчал. У него гудели ноги и не ворочался язык, но, когда он всё же открыл рот, Веня махнул рукой и сказал:
— Ты поменьше разговаривай. Командовать должен кто-то один. И вообще я тебе тысячу раз говорил, что спешу.
Сёмка повертел в руках молочную бутылку, болтавшуюся у него на груди, и улыбнулся.
— Ладно.
Они открыли борта машины, и первый тяжёлый ящик лёг на широкую спину Вени. Потом второй, третий…
Калашников потерял счёт времени, и, как назло, остановились часы, которые он забыл завести. Наверное, был полдень, когда Сёмка перенёс в его машину последний ящик с электродами. Да, скорей всего, полдень — солнце изредка пробивалось на востоке.
Без труда они выбрались из балки.
САША РОТИН СНИМАЕТСЯ В КИНО
Тяжёлый, гружёный «ЗИЛ» шёл через тайгу.
Сёмка держал на коленях трубу и сонными глазами смотрел в окно, покачиваясь на сиденье. На шее у него висела молочная бутылка.
Машина вышла на Тёщин Язык, очень длинный подъём на сопку Култук. Вокруг сопки раскинулось бесконечное жёлтое море тайги.
В осеннюю пору тайга особенно хороша. О ней трудно рассказывать, её надо увидеть, почувствовать её, помолчать с ней наедине. А когда увидишь тайгу в конце октября, влюбишься в неё, как в ту единственную женщину, о которой мечтаешь и грезишь, и будешь влюбляться всегда, когда снова и снова будешь приходить к ней. Каждый день тайга разная, другая, не похожая на вчера и на завтра, грустная и цветная, сердитая и свадебная, лихая и чёрно-белая; у неё нет времени, но есть свои законы, здесь молодость уходит, не прощаясь, а старость приходит, не здороваясь; тайга — коробка с красками, лекарство для больного.
Сёмка повернулся к Вене и тихо спросил его:
— Ты любишь кого-нибудь?
— Нет, — так же тихо ответил Веня и покачал головой.
— Почему?
— Не знаю.
— Девчонок у вас много? Поди, как брусники летом?
— Хватает. Радистка у нас есть одна. Аней кличут. Она и ударить может, и поцеловать, когда захочет. Никогда не знаешь, какой фокус она выкинет. Её боятся, и любят, и ругают её, и ругаются из-за неё.
— Ну и что? — спросил Сёмка. У него разгорелись глаза. Он ожидал интересных рассказов.
— Ничего. Это не она. Если я пойму, что вижу её, я сразу втрескаюсь по уши.
— Непонятно, — сказал Сёмка.
— Мне тоже не всё ясно. Я даже не знаю, какие у неё будут глаза. Ничего толком не знаю. Это где-то далеко внутри, и об этом просто так не расскажешь.
Сёмка помолчал, потом тяжело вздохнул и сказал:
— А у меня ни внутри, ни снаружи нет девчонки. Как монах живу. У нас скоро ребят до полтыщи наберётся, а на всю стройку только сотня девчат. Настоящий конкурс. А я по конкурсу не прохожу. Не везёт мне — даже влюбиться не в кого. Уходить надо.
Сёмка закурил папиросу и снова продолжал:
— Тут недавно кино приезжали к нам снимать на комбинат, а мне сказали — парень ты что надо, но не фотогеничный, на плёнке одна серость будет. Попросили меня из кадра и пожелали трудовых успехов. А я же первый бетон на комбинат привёз, первый пятак под колонну бросил. На счастье.
Они помолчали.
— У нас тоже снимали картину, — ответил Веня.
— Ты чё, — перебил его Сёмка. Он повернулся к Вене, критически его разглядывая. — Ты запросто подойдёшь. У тебя синяков под глазами нет и вообще, когда ты женишься, жена тебя не за мужа, а за любовника принимать будет. Это точно. — Он неожиданно отвернулся к окну и прижался лбом к стеклу. — А от Фисенко я всё равно уйду. Как пить дать, уйду, — решительно закончил он.
Теперь он замолчал надолго.
Приеду, потолкую я с этим Фисенко, подумал Веня. Что он за чучело, чёрт возьми? А Сёмке сказать нечего. Ровным счётом нечего. Нефотогеничный… Так только мерзавец может сказать.
К ним в колонну приезжали снимать фильм. Они приехали трое. С электрогитарой, в новеньких лётных куртках, взятых в реквизите киностудии. Они приехали, когда сошли все морозы, когда кончилось всё самое трудное для верхолазов, когда сияло солнце, без которого они не могли делать кино, документальную ленту о верхолазах-высотниках.
Они были неплохие ребята — двое из них, а третья была девушка, весёлая, черноглазая. Её звали Диной. Дина… Это имя напоминало Вене музыкальный аккорд гитары, если бы он мог прозвучать на тонкой весенней сосульке.
Гуревич расщедрился и отдал им свой вагончик. Из чувства благодарности они много его снимали, но, как выяснилось позже (Дина открыла Вене секрет), снимали они его аппаратом с пустой кассетой, без плёнки. Ну и киношники!
Веня с ребятами часто заходил к ним поболтать — всё-таки люди новые, и разговоры новые, и песни последние, и анекдоты свежие.
Им хотелось казаться своими ребятами в доску, и они с большой охотой травили анекдоты и пели песни Окуджавы и Новеллы Матвеевой. Они красиво умели петь в три голоса, и тогда Дина сказала Вене, что у неё было «пять шаров» по актёрскому мастерству в институте кинематографии. Петь её научили действительно на «пять шаров».
Молодые киношники угощали их польской водкой, пытались заводить интеллектуальные споры, проблемные дискуссии, молились на Ромма, ругали Самойлову, защищали бесконфликтность, не понимая в ней ни черта, и, принимая верхолазов за идеальных профанов, рассказывали им о неореализме. Ребятам было с ними как-то неловко, и они больше помалкивали, а Веня не выдержал и поругался. Поругались, собственно, из-за Кафки, которого Веня не знал и не читал, так только краем уха слышал. Но и они не могли рассказать что-то путное и связное, и было ясно как день, что и сами-то они толком не знали и не читали Кафку. Веня им прямо так и выложил.
С той Диной Веня целовался, только ей было как-то всё равно, и, хотя она оставила ему адрес, просила не забывать и писать, подарила цветную зажигалку, они только целовались. Дина сначала ему нравилась, но это быстро прошло. Она читала Вене Пастернака и Есенина, уверяла, что Веня — шикарный мужчина, что она будет ждать его в Великом городе, когда он приедет в столицу в отпуск, и что такого мужчину она долго искала. Веня не верил ей. Он и не хотел, да и не мог поверить такому бессовестному вранью — и всегда уходил. И, засыпая на тощей полке вагончика, он почему-то вспоминал, что ему уже знакомы все её слова, её мысли, её страстные убеждения. Были ли они у неё?
Дина тихо шептала ему пылкие слова любви на своей половине вагончика, тёплого и тёмного, как валенок, и слова её были лёгкие и музыкальные, как нежные аккорды гитары. За окном всегда смеялся ветер. Но Веня только целовался с ней, потому что знал, что у Дины по актёрскому мастерству было «пять шаров» в институте кинематографии. Она была беспечным романтиком, искавшим новых приключений, жаждущим острых ощущений. А Веня плевать хотел на такие ощущения.
Киношники были неплохие ребята и чем-то даже нравились Вене, несмотря на то, что умели пускать пыль в глаза, трепаться без причины, отчего казались немножко наивными и глупыми.
Они не боялись забираться за хорошим планом к чёрту на кулички и могли, замерзая, ждать режима — сумерек, которые в кино выдаются за ночь. И пели они в три голоса бесподобно.
Да, они были совсем неплохие ребята. Но они были для них совершенно чужие. А что могут чужие рассказать о тебе? Их интересовали кадры. Красивые кадры! Броские светотени! Это они могли делать отлично и делали. Три дня они снимали маленький кусочек картины, который в фильме должен быть всего несколько секунд, — кран поднимает солнце. Заранее они думали об аплодисментах своих коллег. Они строили эти кадры и возились с ними, как с грудными детишками, целыми часами.
И из-за этих кадров, которых никогда не увидит мир — их сочли лишними и вырезали в Великом городе на студии, погиб Саша Ротин.
Им нужен был сногсшибательный кадр для финала картины, и Саша Ротин сказал — будет! Саша Ротин всё мог сделать. Веня хорошо знал об этом, потому что три месяца учился у него.
Когда прошли эти три месяца, и Веня получил четвёртый разряд (сразу четвёртый, это не шутки), Ротин сказал Вене: