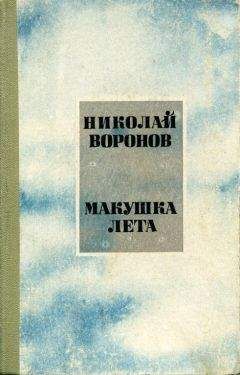Мой дед, Никита Захарович, когда мама поступала вопреки его желанию, до того всегда ругался, гримасничая, выкручиваясь туловищем, что нам с Максимом казалось — рехнулся старый. Мама, которая, как она говорит, повидала в молодости всяких-превсяких чудищ в человеческой образине, всегда успокаивала нас: «Бесится. Кто рехнется, таких сроду-роду не приведись встретить. Жить с ними бок о бок — страшная казнь. За грех — не иначе».
Инна бесилась. С тех пор я всего насмотрелся среди людей. Вероятно, с излишком пришлось наблюдать бесившихся. Пытался понять природу этих нервных извержений. Их природа многопричинна, как и природа любой страсти, находящейся как бы между нормальной страстью и пагубной, безудержной, больной. Мы привыкли искать причины человеческого поведения в том, что вот только что произошло или что было день тому назад, неделю, месяц. Во временах, отстоящих от нас чуть подальше, мы не часто ищем необходимые ответы. И совсем редко ищем их в давнем. Внешняя красота, подобно богатству, родовитости, крупному чину, является условием для неистовства, произвола, самонадеянности... Не парадокс ли это, Марат: красота на службе жестокости? Впрочем, чему тут удивляться? Древняя причина для скорбей и зла. Инна бесится от безотчетного стремления к свободе поступать как заблагорассудится. Сейчас не без смущения я предполагаю, что так могли темно и абсурдно отыгрываться на нас блокадные страдания Инны. Месть не по назначению — не такая уж редкость, и мне в диковинку, что никто ее не замечает. Увы, за все, не отомщенное истинным виновникам твоих невзгод, бед, потрясений, расплачиваются прежде всего самые близкие наши люди. И третье: издеваться за любовь — тоже в природе человека. В этом, единственно в этом, я отдавал себе отчет в ту предпраздничную ночь посреди войны и побаивался, как бы ты не покончил с собой. И едва губительные звуки Инкиных поцелуев погнали тебя к маковкам холма, я без промедления рванул за тобой. Ты, вероятно, решил, что вослед тебе бежит Инна, и оглянулся, и я сразу же отстал, услышав твой надсадно-свирепый выкрик:
— Пыр-редатель!
Я хлопнулся в траву. Я чувствовал себя обиженным и виноватым, досадовал и раскаивался, катался по земле и замирал, постепенно впадая в состояние почти бездыханного отчаяния.
Пришла Инна. Сидела у меня в ногах. Спина слегка вогнута. Пух кроличьей кофты какой-то дымно-лунный. Ладони прижаты к щекам. Вроде наблюдает за взвихриванием и сниканием заводских зарев. Но вполне вероятно, что закрыла глаза и пытается понять саму себя.
2
Как ты думаешь, Марат, можем ли мы понять самих себя? Лично я думаю, что много в нас неуследимого. Неуследим ток крови, клеточный обмен, перегруппировка нейронов... Неуследимость такого толка я не собираюсь распространять на движение чувств и мыслей. Мы схватываем их, но это схватывание я уподобляю схватыванию вспышек солнца на поверхности водопада, молниевых взлетов рыб внутри его потока, роению радужных капель над бучилом. Мало, ничтожно мало мы схватываем в себе и вовне. Если спросить человека вечером, о чем он думал, что представлялось ему, какие предобразы, сравнения, не нашедшие взаимосвязи, побуждения плутали в лабиринтах его подкорки, то он назовет лишь немногое, все равно что возьмет с бесконечного конвейера, который несет на себе пшеницу, всего-навсего несколько зерен. Если спросить авиапассажира, перелетевшего из Москвы в Хабаровск, что он видел с самолета и что при этом происходило в его внутреннем мире, то он разочарует нас скудным объемом информации о пространстве и о себе. Дело тут не в слабости памяти: в слишком неразвитой способности самослежения и восприятия видов земли и неба на огромной скорости.
Если Инна и пыталась понять саму себя, то, вероятно, лишь в пределах происходившего в те вечер и ночь. Боюсь, Марат, ты заподозришь меня в попытке занизить умственное развитие Инны. Никто не может быть предельно объективным, однако в данном случае я руководствуюсь единственным желанием: точно воспроизвести, к т о был к е м. Тогда она, на мой взгляд, являла собой существо по преимуществу рефлекторное, эмоциональное, в ней развивались сферы чувств. Позже она неожиданно развилась, как натура художественная, интеллектуальная, к чему я долго относился с подозрением, предполагая, что ей помогает многоопытный редактор, может, даже перебеливает за нее очерки, рассказы, эссе. Подлость разума — тяжелый порок. Я не пытаюсь этого скрывать. К счастью, для меня подлость разума эпизодична.
Я отказался от домысла, что кто-то занимается агломерацией произведений Инны, едва она сошла на перрон нашего с тобой родного города. Это было в конце пятидесятых годов. Ее встречала горстка местных литераторов. Через одного из них, дерзко-честного прозаика Михаила Прохорова, рассказы которого критиковались на недавних совещаниях, я узнал о приезде Инны и напросился ее встречать. Мы с Прохоровым создали клуб интеллигенции, он захаживал ко мне в лабораторию и домой. Инна чуть ли не с подножки вагона начала высмеивать досужие замечания в адрес его рассказов, подавая это так, будто распекает его с трибуны:
— Позволь, Михаил... Как ваша фамилия? Неважно, я тебя не читала, но я скажу, как надо писать. Здесь товарищи приводили цитату из вашего опуса: «Жизнь в сущности аквариум: плаваешь от стенки к стенке, зароешься в песочек...» Как у тебя повернулось перо? Ты чью картошку лопаешь? На чьих трамваях раскатываешься?
Михаил подал реплику словно бы из зала:
— На чьей мартеновской печи вкалывал?
— Ты меня не собьешь демагогической подсказкой! Жизнь, видите ли, у него аквариум! Вы не нюхали жизни. Ты ко мне обратись. Все изложу. Я вас не читала, но об чем писать, мне наперечет известно.
— Фразу-то вы из уст моего героя вытащили. Не надо отождествлять автора и героя.
— Не должно быть таких героев.
— Вы сначала почитайте...
— Времени для пустяков нет. Ему, ведите ли, критика не по нутру. Полемику развел. Ты цыплят разводи. Поддержка сельскому хозяйству. А то, видите ли, — аквариум.
Другой род занятий, а повод для потехи равнозначный: невежество. И меня, случалось, учили, как создавать печь прямого восстановления железа, и я потешался над непроходимой беззастенчивостью своих «учителей». Вот я сразу и снял подозрение, что за мнимым авторством Инны стоит мощный редактор, он же — маститый писатель.
После, Марат, были у меня с Инной такие счастливые, несбыточно счастливые события... Но о них я не смею, Марат, писать, чтоб ты меня не проклял. До них я не подозревал, что вероятно такое счастье!
Я забежал на много лет вперед. И отступлю обратно, в прошлое, не ради укора тебе, Марат, ради устыжения.
3
Инна сидела у меня в ногах. Казалось, что она наблюдает за пульсацией заводских зарев. Наивность, благостная наивность.
— Ты мог бы, — полуобернувшись, спросила она, — жить с нами на Маяковке?
Никогда раньше я не думал жить не у себя дома. То, что происходило в последние часы на Театральной горе, настроило меня на чувство, что все это понарошку, игра во взрослость. Ничего не оставалось, как слукавить.
— Жить снами я не сумею.
— Не момент каламбурить. Сможешь перейти к нам в семью?
— Мама не отпустит.
— Попробуй отпроситься.
— Кабы отец не на фронте... Дед совсем сдает. Я за большака в семье.
— Максима забыл.
— Максим слабосильный. Весной грунтовая вода поперла в погреб. Целую неделю черпали и таскали. Забот по дому проваленная тьма!
— Ну уж, ну уж!
— Точневич.
— Прекрати!
— Чего ты?
— Легкомысленные словечки... Отпрашиваться глупо. Не решишься — будешь пропадать без счастья.
— У нас, ежли кто... В общем, издеваются: «Вышел взамуж».
— Идиотничают. Сейчас же идем к нам.
— Твоя-то мама...
— Я говорила ей.
— И что?
— Не сомневайся.
— Я тоже должен сказать.
— Завтра.
— Мама глаз не сомкнет, если не вернусь. Отложим на день.
— Сегодня.
— Пожалей, а?
— Проверила я тебя.
— Проверила?
— Сполна.
К той минуте, когда Инна сказала, что проверила меня, сквозь мое смятение начала прорываться решимость: «Маяковка?! Стыдно. Но ведь...» И вдруг: проверила! Оскорбление в самое сердце. Испытывала! Я-то развесил уши, волнуюсь. Всего лишь испытывала. Не нужен я ей. Матери с Беатрисой — тем более. Кошке игрушки, мышке слезки. Все это я прокричал Инне, рассвирепелый, вскочил и — в темноту. Инна смутилась, пролепетала вослед:
— Ты не разобрал, ты не разобрал...
Вот, Марат, я и подступил к тебе, которого не подозревал. Не стану расшаркиваться: дескать, не верится, что ты это сделал. Верится. Обычный поступок для нравов тогдашних парней. Только понять до конца не могу, как человек с твоей душой так о п р о к у д и л с я.
Сильно же ты его швырнул, тот обломок кирпича, не хуже фронтового танкобойца: кирпич аж шепелявил на лету. Повезло нам! Угодил он мне в голову, выше виска, и как-то спасительно-странно кувыркнулся и срикошетил. И все-таки и при том, что он срикошетил, у меня не хватило силенок перевалить через холм. Я рухнул под лиственницей. На ее иголках лежалось лучше некуда: мягко, тепло, душисто. Если бы только не ощущение, что тебя запрокидывает на спину и поднимает вверх тормашками. Ты, вероятно, швырнул кирпич, а попал ли — не глянул. Что тебе Антон, когда есть Инна, пусть и ускользающая издевательница? Перед ней можно забыть о достоинстве, о самолюбии, ей можно прощать что угодно. А друга, виноват ли, не виноват, можно ухлопать незаметным для себя образом.