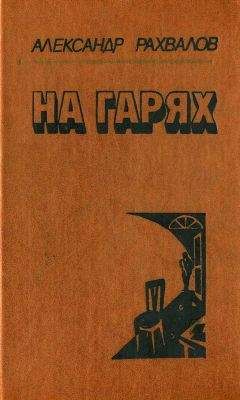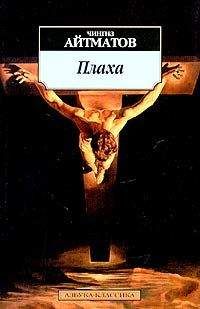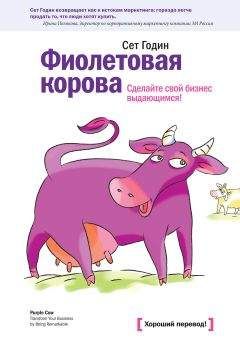«Не будь шаньгой! — успокаивал его Котенок. — Реже грусти, чаще пой, щегол! Тебе нужно петь. А что, в натуре? Только хорошая песня сможет тебя вытянуть до полутора метров. Пой — и прости старух, — продолжал он разыгрывать камерную сценку-импровизацию. — В какой-нибудь церкви отец святой без нас разберется с ними: он знает, какую из них наказать. Верующие — особый люд… Их не надуешь».
«Нету веры! Откуда? — расправлялся Писка. — Все давно провожено… Хотя в церковь они ходят на Панином бугре. Там отец Василий, он тоже безбожник… Но гонит им фуфляк».
«Почему? Что же он, пробожившийся поп?»
«По вечерам ездит на своей „волжанке“ в „Октябрь“ и смотрит там наравне с грешными боевики — секс и трупы! Такой давно развратил весь приход. Такому и веры быть не может».
«Брось! — одергивал его Котенок. — Не семечками торгуешь. И не дрожи, как кролик. Не выдержишь нагрузки, а бабку потом кому? Бабушку-то на кого оставишь?»
«Сама по себе… Сдала меня, стерва, как барана».
«Нет, кровнячок! Ты ей еще понадобишься, — хитрил Котенок. — В жизни всегда так: сначала посадят, а потом начинают посылки слать, передачи носить да на денежный квиточек намекать. Так что верь — понадобишься еще своей шлеп-ноге… Она тебя найдет». «Крепитесь, гражданин!» — в натуре, лучше не скажешь!
Но «гражданин» не успокаивался, воспринимая все всерьез и выкатывал влажные, как голубика, глаза: «Нашли преступничка! Ничего, — утешался он, — я эти два года отломаю, будто на парашу схожу. Но знайте: я вам не гад! — дрожал он всем тельцем. — Придет час — хоть с быком стыкнусь, придет — и стыкнусь! А что? Не стыкнусь?»
И Котенок, и Зюзик начинали старательно поддакивать распаленному подростку, но Роману было не до смеха — он никак не мог понять: сопляк этот по-русски не может связать и двух слов, а «феню» осврил в три месяца и обсасывает сейчас каждую бяку, как ириску! Ну когда успел? И главное — душа это принимает, как хорошую песню.
Не то среди подследственных, не то в этапке, когда осужденных распределяют по камерам, но Писка успел нахвататься верхушек из «феклы» и смело вгонял их в свою речь. Никто его не притеснял, не обижал, как зачастую бывает среди малолетних преступников, не одергивал без нужды по-настоящему… Разговаривали, шутили, и тем, наверное, пока утешались. Молчком, как сова в дупле, невозможно было протянуть и дня, потому что убивали собственные мысли: они, оказывается, как вода, стекали под уклон, образовывая глубокую воронку, которая могла проглотить даже опытного пловца. В тишине — жутко и душно! Дремота. Табачный дым, расползаясь по потолку, желтел, как накипь на стенках рыбацкого котла. Слышно было, как в трубах хрустела вода… Кому-то сустав выворачивали с хрустом, но он не кричал от боли. Роман даже рифмовал:
В трубе хрустит вода.
Вам больно? Да?
«Кому — вам?» — не отпускал неожиданный вопрос. Как в патрон зажали башку. И получалось, что никому. Среди людей жил, а выдрали, как морковку из грядки. Никто не вступился даже… Кругом — мертвые вершки. Но куда ты теперь с этой обидой, щенок?!
У каждого впереди был срок, а относились к нему все по-разному. «Первоходочники» ожидали чего-то, но такие, как Котенок, старались сразу же как бы рассредоточиться в нем, чтобы потом, по ходу отсидки, не свалиться на один бок. Бывало, что придавит… Но нет, Котенок знал, как ему дотянуть до середины и перевалить через нее, чтоб без одышки приблизиться к желанному звонку. Собственно, уже все было. Надо просто повторить пройденный маршрут и избежать тех ошибок, что совершал по неопытности. Здесь проще.
Писка же по-прежнему оставался слепышом и тянулся за «бывалыми» изо всех сил, перехватывая на ходу и усваивая нужную походку, осанку, жестикуляцию, даже манеру говорить. С миру по нитке. В этом и заключалась вся его жизнь.
«Думаете, сконю?» — горячился он, обращаясь к Котенку. «Брось ты, щегол, — усмехался тот. — Лучше пой. Душевная песня из таких худоб, как ты, делает отличных ребят. Вот, к примеру, я, — в который уж раз вспоминал он. — Выкатил из кабака, топаю. Привязались чуваки. Я не сконил, кричу: „Вы че, в натуре?!“ Сцепились. Оторвался кое-как, отступил на шаг и размахнулся костылем… А когда махнул да посчитал, оказалось — трое!»
Котенок не был приблатненным, как Зюзик, которому без «фени» — угар, но в розыгрышах все-таки не брезговал этим специфическим диалектом. Так и на Писку надавил… Тот даже растерялся и, отойдя к бачку, стал набирать воду в кружку, но цедил ее нарочно по капле, чтоб хоть так оторваться от проигрышного разговора, который его ни в коей мере больше не устраивал. На том и расходились.
Теперь же Котенок дремал, но Зюзик подкалывал Писку, и тот вынужден был приклеиться к волчку, чтобы не опростоволоситься очередной раз. Ему прощали все. Но впереди был срок.
Маленький шкет, он стоял на цыпочках, едва дотягиваясь до застекленного отверстия-кругляша в двери, через которое надзиратели наблюдали, так сказать, за жизнью в камере. Роману даже стало жалко Писку, и он в душе покаялся, что попусту сцепился с ним. Ну, крутится, ну, смотрит — кому же помешал человек! И этот прилип к нему…
К счастью, Зюзик сам отвернулся от Писки, не желая больше выяснять подробности «кражи века». Он валялся на своей постели и смотрел в пол, точно соображая: «Свободу прошляпил: в бегах стреножили, как Сивку, теперь самое время подумать о том, как жить дальше. В камере. Здесь пространства нет, но жизнь… Сама мысль о жизни разрывает голову».
Наступила тишина.
Роман отбросил затертый до дыр журнальчик, когда за дверью, от которой отскочил Писка, заскрежетали запором, раскручивая сложнейшую конструкцию замков. Наконец «кормушка» распахнулась, и в ней показалось добродушное, с ярким румянцем лицо Дуси-баландерши:
— Кушать будем? А, ребятки мои?
Дуся улыбалась.
— Будем, мамка, будем! — подлетел к «кормушке» Котенок, будто и не спал вовсе. Писка притих за его широкой спиной.
— Всегда рада вас покормить, работнички вы мои! — нежно выговаривалась Дуся. — Плотники вы мои, каменщики и слесаря! А ну, подавай миску!
Запарившаяся от беготни, Дуся потянулась за черпаком. Белые ее груди едва не вывалились из разреза блузки… Но и так было видно, что бывшая кассирша не думала даже терять своих внешних данных. Срок сроком, а товар… Работая в тюремной хозобслуге, она не прокурилась насквозь, как проживающие с ней в камере девицы, не высохла в думах о приближающейся свободе, которая должна была окатить ее через полгода.
— Фуры гоните! — прохрипел надзиратель, выглядывавший из-за Дусиного плеча. — Чего вылупились, волчата?
На него никто не обратил внимания.
— Эх, мамка! — стонал Котенок. — Дай хоть я тебя мацану за что-нибудь! Ну, одним хоть клыком… Третью ходку без… О-о! — замотал он башкой, едва не дотянувшись губами до потной груди баландерши. Та вовремя отскочила и шлепнула в протянутую ей миску черпак дымящейся жидкости, настоянной, очевидно, на муке. — Ты че, в натуре! — обиделся Котенок. — Толкаешь, как мастевому. Черпай со дна да погуще, чтоб самый кайфолом!
Дуся провернула черпаком в котле и выловила целую картошину.
— Кушай на здоровье! — по-прежнему улыбалась она. — Суп, конечно, не ахти какой, но густоватый. После будет хорошая каша.
— Хрен с ней, с кашей! — подходя к столу, визжал Котенок. — Но я люблю похавать, чикуха-муха! Жру мало не потому, что не хочу, а потому, что мне не дают. А, Зюзикон?
Зюзик подтвердил, кивнув на «кормушку»:
— Ты прав, как всегда.
— А где у вас карапузик-то? — заглядывая в «кормушку», спросила Дуся. — Ах, вот ты где прячешься, маленький мой! — обрадовалась она, увидев Писку. — Вот ты где! А я тебя, крошку!.. Ну, подходи смелей, подходи, роднятинка моя, — пела она. — Вот так, оть! Как мы ходим, как ходим ножками… Глаз не оторвать!
— Цыц ты, воровка!
— Оть так, оть… — тянулась к нему Дуся.
Писку любили все женщины тюрьмы — и те, что в пересменку драили коридор, и те, что развозили баланду. Кому-то он напоминал, может быть, родного сына, кому-то братишку… И всем хотелось дотянуться до него, погладить по головке, приласкать, просто взглянуть — чтоб унести с собой в камеру и побыть с ним наедине — хоть в мыслях, но как дома. То же тепло. Он им снился по ночам…
Но Писка негодовал, он зверел.
— Заелись, воровки! — подходил он к столу, едва отвязавшись от Дуси. — Нашли игрушку себе… Куски вонючие!
Котенок хохотал. Роман ел молча. Зато Зюзик, не скрывая ехидства, советовал:
— Не распаляйся, карифан! А то язык… Вон какой красный!
Писка, отбросив ложку, сжал маленькие кулачки, но в голове не складывалось достойного ответа, которым можно было бы, как иглой, ткнуть Зюзика. А ответ был очень нужен, потому что в Зюзиной реплике Писка видел прямой намек. «Да что я, чушок? — сопел он, не отыскав ответа. — Ночью запорю заточкой!..» Но ночью он сладко спал и постанывал, когда ему снился нехороший сон, ворочался, с испугом цепляясь за сползающее на пол одеяло. И все же спал. И все спали, надумавшись про себя и навздыхавшись в подушку. В тишине раздавались только шаги надзирателей, подходивших иногда к волчку, да глухо позвякивали связки тяжелых ключей в их руках. Тюрьма спала. Притока свежего воздуха почти не ощущалось, потому тюремные сны почти не прерывались, как забытье, до самого утра. Зато утром, стоило только потянуться лицом к форточке, как свежий воздух окатывал — он бил струей, как из водонапорной колонки, и струя эта была студеной. Хотелось припасть к ней, чтоб напиться досыта. Потом это все уничтожалось табачным дымом и запахом прелого озноба, исходящего от постелей, пропитанных сыростью. Нестерпимо воняла параша.