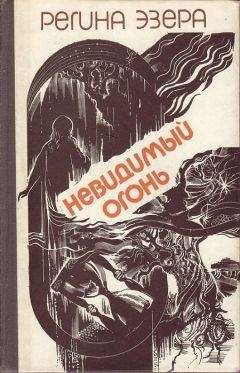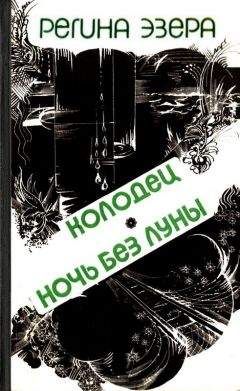К двери приближаются шаги. С той стороны кто-то нажимает на ручку и отпускает. Постучат? Не постучат? Нет, не стучат, шаги удаляются, и опять настает мертвая тишина. Мама? Кажется, да. Наверное, мама…
Стук молотка прогоняет тишину. В кухне или в прихожей кто-то забивает или спрямляет гвозди, долбит ритмично и глухо, как дятел. Наверно, отец. Интересно, что он будет делать с этой пачкой? Не понесет же назад в магазин. И как она могла забыть сигареты в пальто? Правда что балда!.. И к тому же знала, что отец всюду лазит. Выудил из сумки записку, учуял в кармане сигареты. Все надо прятать, как от вора… Как от… шпиона…
Стук стихает. К ее двери вновь приближаются шаги, мать за дверью что-то говорит, может быть ей, может о ней, разобрать нельзя, зато слышен голос отца: «Пусть себе посидит! Голод не тетка…» Это о ней, о Лелде, о ком же еще, да так громко, чтобы и ей было слышно. Голод… Смешно. Есть не хочется ни капли, а голова тяжелая и пустая. Несмотря на отцовы слова, мать, кажется, не уходит, видимо надеясь, что Лелде откроет, или не зная, что ей сказать, что предпринять. Лелде ждет, что будет дальше. Но ждет напрасно. Только за дверью по-прежнему кто-то стоит — стоит и стоит, тоже ожидая, что будет: что скажет, что сделает она. Проходит минут пятнадцать… полчаса… час… Наверняка так только кажется и никого там нет, нельзя же стоять без конца. И все же она почти чувствует ободряющее присутствие другого человека, ей слышится даже его дыхание. Ступая на цыпочках, она подкрадывается к двери, прикладывает ухо и слушает тихое живое биение, как стук морзянки, посылаемый живым существом. Приходит в себя — это же ее пульс! — и разочарованно возвращается; обхватив руками, подтягивает к груди колени и, не ожидая больше ничего и ничего больше не желая, сидит на кровати в каком-то странном — тоскливом и в тоже время сладостном — унынии, чувствуя себя одинокой и покинутой, сидит долго, без мыслей, как в полусне.
Выходит она из комнаты в поздний час, когда дом погружается в полную темноту. Не зажигает света и она, ощупью бредет в кухню и, налив из чайника еще теплой воды, умывается и пьет. На дворе такой мороз, что кухню быстро выхолаживает, стекла затянуты прозрачным затейливым узором, который серебристо мерцает в ночном сумраке, и на белесой стене — светлый прямоугольник окна.
Она подходит к окну.
Небо чистое, усеяно большими и малыми, близкими и далекими звездами, и большие и близкие искрят синевато, а малые и далекие сливаются в белое сияние, льющееся из космоса, где царит глубокий вселенский покой. Она трогает стекло, оно гладкое и холодное, на нем остаются круглые, как темные вишни, следы ее пальцев. На седом, еще тоненьком слое инея легко написать буквы, слова и даже целые фразы. Ее манит такая возможность, но она не знает, что бы ей написать на стекле, посеребренном светом звезд, и к утру все равно иней затянет, заткет и сотрет все…
Она возвращается в комнату и ложится.
Оконный проем белеет, как стеклянная стенка большого аквариума. Сквозь занавеску не видно отдельных звезд — сплошное матовое, тусклое мерцание, которое делает комнату нереально сказочной, как пучину.
Слышится гул мотора сильно припозднившейся машины, едущей неизвестно откуда и кто ее знает куда. Сколько может быть времени?
«Может, ты хочешь куда-нибудь… того?» — как сквозь туман, мелькает у нее в голове.
Да, иногда, думает она. Но это… не то… Ты этого не поймешь.
Стихает и гул машины, и возле самого уха тикают только ручные часы.
«Ты знаешь, что такое быть сердобольным? — думает она. — Есть такое слово, я читала. Не знаю, что оно значит, но это должно быть что-то очень хорошее… очень… я только не знаю, что это… сердоболие… Странное слово, правда?..»
Аврора слышит легкие, как шелест, шаги Лелде. Не спится? Есть захотелось? Ходит как привидение, даже света, наверно, не включила — в дверную щель или замочную скважину пробился бы хоть лучик, хоть полоска, хоть светлый блик. О чем можно думать, расхаживая по темному дому далеко за полночь? И вообще… что она знает о внутреннем мире другого человека? Одни догадки, допущения, одни домыслы, даже о своих близких только предчувствия и предположения, только гадание на кофейной гуще.
Опять та же дума.
Когда, в какой момент успела Лелде так сильно отдалиться? Два раза пыталась она войти, и оба раза дочь не отворила — как чужой женщине, строптиво заперлась и так и не открыла, и вот сейчас, среди ночи, скребется и шелестит крадучись, как домовой, да тихо так, почти неслышно, как будто ходит по чужой квартире: ни петли не скрипнут, не звякнет посуда, одни шуршащие шаги впотьмах, и те не нарушают тишины, но лишь подчеркивают, усугубляют, так же как рядом, у другой стены, дыхание Аскольда. Спит? Не спит? Заснул? Не заснул? Во сне он обычно похрапывает, а сейчас — дышит ровно, слышны только сипловатые, хриповатые звуки, как размеренные вздохи. Уснул? Или только делает вид? Чтобы не надо было отвечать, говорить… Странно лежать так, с открытыми глазами, чувствуя, что и другой лежит так же, только притворяется спящим.
— Аскольд!
Тишина. Ритм дыхания чуть сбивается, потом выправляется, и так вполне может быть — спит ли он, или бодрствует.
Зачем было звать? Что это может изменить? Или спасти? Создать иллюзию близости?
Шепотом произнесенное имя еще звучит в ее ушах. Аскольд. Жесткое имя, неподатливое, ни уменьшительного от него, ни ласкательного. Ас-скольд. Как оссколок… осстрие… оссть… Как ось, вокруг которой вертится недоступный мир Аскольда.
Сколько раз вообще ей открывалась душа Аскольда за долгих шестнадцать лет? И часто ли ей доводилось чувствовать искреннее волнение за этой холодной строгой внешностью?
Может быть, в первый раз, когда он пил близость жадно, неистово, ненасытно, как голодный, и лихорадочно шептал бессвязные и нежные слова не то заклинания, не то благодарности, пока не провалился в сон, — и вдруг она осталась в темноте одна, еще в объятиях, в кольце горячих рук Аскольда, еще чувствуя на своем лице живое дыхание и слыша гулкое биение сердца, но уже одинокая, уже словно брошенная.
Или в день свадьбы, когда она, скрывая талию за собранной в бант лентой, сияла от гордости и счастья, а он был как в воду опущенный?.. После двенадцати он вообще куда-то исчез, и ей пришлось идти искать; ночь была почти такая же, как сейчас, — ясная, безветренная и безлунная и тоже холодная, хотя и не такая морозная; она нашла его во дворе в черном, свадебном костюме и с голой головой, и в темноте белели его волосы; он стоял, глядя вдаль, как привязанный, истосковавшийся по дому пес, отданный чужим людям; она позвала его громким шепотом, как и сейчас: «Аскольд!» — в надежде, что он обернется, оглянется. Не обернулся, не оглянулся. Ее взгляд, ее голос не имел никакой власти над его чувствами. Она своего добилась и отвоевала право лишь на это большое, безупречно сложенное тело. Она этого хотела, желала горячо, во что бы то ни стало, просила и унижалась, требовала и настаивала, она даже пошла на отчаянный шаг — не помня себя, помчалась в Раудаву, в райком комсомола, как будто бы речь шла о жилье, в котором она нуждалась, или о пособии, которое ей необходимо, о вещи, предмете, деньгах, а не о живом человеке. И все же она своего добилась.
Но какой ценой — это она впервые постигла только в ту ночь, в ночь после свадьбы, когда Аскольд стоял один, одинокий, под зимними звездами, озаренный слабым, падавшим из окон светом, сгорбленный и поникший. Ее счастье было его несчастьем. До этой минуты ей все казалось, что надо только оформить отношения юридически, а все остальное само собой уладится. И тут ее охватила внезапная жалость. К Аскольду? Или к себе? Никогда и ничего до той поры она не покупала такой ценой — ценой страданий другого человека; и ощущая под свадебным платьем первые слабые толчки, робкие движения ребенка, и глядя на черную широкую, как-то беспомощно сгорбленную спину Аскольда, она, дрожа в легком платье на зимнем холоде, молча его оплакивала, как оплакивают мертвых…
С годами многое отступило, улеглось, утратило остроту — они притерлись друг к другу. В ней теплилась надежда, что рождение ребенка что-то всколыхнет в Аскольде, изменит, пробудит. Но к младенцу муж остался равнодушным, и Аврора восприняла это с обидой и болью, это ранило ее — ее материнскую гордость и материнскую любовь, возникшую в ней стихийно и самовластно, столь же естественно и внезапно, как в груди появляется молоко. Аскольд же скорее избегал дочери, чем тянулся к ней, Правда, он привез из Раудавы коляску, а из Риги кроватку, он объездил аптеки в поисках марли и сосок, но только по обязанности, из чувства долга. Не по своей охоте. Покойница мама говорила: такие они, мужчины, сроду и есть, и ничего тут не сделаешь, и Аскольд еще не из худших — такой заботливый, рачительный, а чего же еще требовать от мужика, вон лавки и магазины обегал, дров наносил и какие плахи еловые разделал, которые сам черт не расколет, — парень из себя видный, и Аврора должна молить бога, что у нее такой муж, да к тому еще и не бабник, не пьяница. Аврорина мать была простая женщина, и вообще замужние бабы мерят счастье-несчастье простым аршином: если бы пил да скандалил, если бы распускал руки… Да где там! И черного слова не скажет. Что же еще было делать Авроре как не смириться — свыкнуться с тем, что ребенок для мужа лишь косвенный виновник неудавшейся жизни, помеха и обуза.