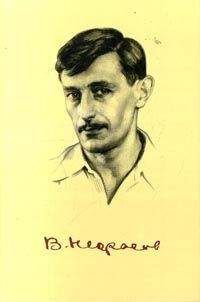– Уф! – Роман украдкой расстегнул пояс. – Вот придут наши краснозвездные, кончатся все эти ваши улитки-эскарго, и перестанете вы гнить… Понюхаете нашего зрелого, развитого… Ох, не могу… Давай еще по коньячку ударим, на прощанье, так сказать…
Возвращались домой пешком, метро уже не ходило, а на такси не было денег, все проели и пропили.
Много в этот вечер говорили о Сашке. Не с завистью, не осуждали ни в чем, но в общем-то с грустью.
– Слава, слава… – вздыхал Роман. – Помнишь, я тогда еще, в первые же дни говорил тебе – не выдержит. И не в деньгах дело – деньги деньгами, но главное – простор, предложения, выбирай только. Ухватил жар-птицу за хвост, держи покрепче, не разжимай кулак… Ты в чем его видел, в «Спящей»?
– Нет, концерт, с бору по сосенке. А в телевизоре знаешь что? Не поверишь, в «Дон Кихоте».
– Дерьмо балет.
– Дерьмо. И при чем там Дон Кихот? Появляется два раза. И Сашка там какого-то влюбленного племянника изображает. Бред! И это после его Адама в «Сотворении мира». Помнишь, по Эйфелю?
– Помню ли… Сколько выпито было после этого.
– А здесь – тьфу! Больно смотреть. Хотя танцует, конечно, хорошо. И боюсь, что только ради денег. А их у него, судя по всему, куры не клюют.
– Куры, куры… Кстати, он не спрашивал у тебя, когда вы встретились?
– Нет, не спрашивал.
– Ты знаешь, о чем я?
– Знаю. Нет, не спрашивал.
Оба вздохнули. Так не похоже на их Сашку.
Роман повернулся вдруг к Анриетт, она, как всегда, помалкивала, слушала.
– А знаешь, мне твой муж нравится, нравится, как он держится. Ей-Богу. Ладно, жар-птица, как Сашке, не подвернулась. Ну и что? Телевидение? Не самое интересное в жизни? Ну и хрен с ним. На жизнь дает? Дает. Машину даже имеете…
– Все имеют.
– И квартиру, не перебивай, и не где-нибудь, а в Париже, в центре Парижа… И на все ты положил эту самую штуку.
– Ну, как сказать.
– На все! Настаиваю на этом. Парторганизации нет, раз, месткома нет, два. Самой прогрессивной общественности и собраний – три. Никто не стукнет, что пьешь, болтаешь лишнее или левые ходки от жены скрываешь, пардон, мадам… Это с этой стороны. А с той? С вашей… Не надо, как тому же Сашке, думать, соображать, подсчитывать, рассчитывать. С тем надо в ресторан сходить, того не забыть на премьеру пригласить, того к порогу не подпускать. Да-да, не думай, вовсе не легко ему. Птица птицей, но хвост-то горячий, обжигает. А ты? Свободный человек на свободной земле. Захотел на Мадагаскар – поехал на Мадагаскар…
– Десять тысяч туда и обратно!
– Умолкни! Слышать не хочу. Ты знаешь, сколько я унижался, на брюхе перед гадами ползал, чтоб в эти Канны попасть? Плевал я на них, на все эти фестивали – тебя хотел увидеть. И увидел! Живым, здоровым, ворчливым, недовольным, но – свободным! Понял! Сво-бод-ным! Ну, давай за свободу… Мудило!..
Ашот часто вспоминал потом этот монолог слегка подвыпившего друга. И на вокзале, Гар-дю-Нор («Обязательно будь, проводи, плевал я на всех!»), в последнюю минуту, соскочив с подножки, как тогда Ашот на Финляндском вокзале, заключил его в объятия и, тыкаясь небритым подбородком, шепнул: «Завидую! Черной, грязной, мерзкой завистью… Завидую…»
А он, дурак, завидовал Ромке. Тот долго махал ему из окна, пока вагон не скрылся за поворотом. Ашот постоял, постоял и пошел в буфет.
Вот так, три друга… «Модель и подруга», – вылезло вдруг откуда-то и весь день вертелось в голове. «Три друга, модель и подруга…»
В этот день Ашот напился. Один. Начал с вокзального буфета, потом пересек площадь, зашел в кафе «Терминаль», посидел, попытался читать газету, не вышло, заказал еще…
Вокруг Ромки суетились какие-то люди, все с туго набитыми чемоданами, и не с одним, а с двумя, тремя. А у Ромки один, маленький, и авоська. И кольт, и Булгаков со Шпаликовым, и ни одной рубашки, только джинсы, которые ему силком всучила Анриетт. Он спрашивал, между прочим, у Романа про Веру Павловну, присылает ли ей Сашка какое-нибудь барахлишко? Тот обругал себя последней сволочью – первое время заходил, потом все реже и реже, последний раз забегал с полгода тому назад. Нет, не очень балует ее Сашка. Толкового письма так и не написал. Раза три все же, а может, и четыре звонил. Прислал как-то шубу меховую и какие-то кофточки. А старушка держится, работает по-прежнему, грустит. Одинокая очень. Надо, надо, надо… Нельзя так бесчувственно относиться. Ромка опять стал себя поносить.
Может, это больше всего поражало в Сашке и Ашота, и Романа. Ведь так любили друг друга, он и мама, так дружили. И вот за три года три звонка, четыре. Шуба, кофточки… Не укладывалось в голове.
Закончил свое скитание по кафе Ашот где-то на Порт д'Орлеан и то лишь потому, что иссякли деньги. Взял «деми» – кружку пива и пару сосисок. Смотрел на прохожих, сосал свою трубочку.
То, что Роман уехал, это естественно. Приехал и уехал. Нет, не уехал, провалился в пропасть, в преисподнюю. С советскими всегда так. Наговоришься с ними до умопомрачения, а потом как ножом отрежет. Ни писем, ни звонков. «Ты уже забыл, какие мы, – говорил ему один из моисеевцев, довольно часто бывавший в Париже. – За три года начисто забыл. Приезжаем сюда, глотнем вашего воздуха и размагничиваемся, иной раз даже стукача своего пошлешь подальше. А возвращаемся домой и сразу в свою скорлупку, всего боимся, лишнее слово сказать. Что поделаешь, так воспитали…»
Домой вернулся поздно. Ни мать, ни Анриетт бровью не повели, все поняли.
А жизнь текла по-прежнему. Работа, дом, телевизор (главным образом, для Рануш Акоповны), чтение, изредка – кино. Очень даже изредка. Анриетт удивлялась.
– В Ленинграде ни одной новой картины не пропускал, а тут даже на Феллини и Бергмана не затянешь. Пойдем мы наконец на «Механический апельсин» или нет?
Ашот сам сначала удивлялся собственной, появившейся за последнее время пассивности, потом понял, что там, дома, рвались на Габена или Анну Маньяни не только, чтоб на них посмотреть, но чтоб окунуться в чужую, незнакомую и, в общем-то, соблазнительную жизнь, посидеть в парижском кафе, мчаться с бешеной скоростью по автострадам и хайвэям, развалиться в кресле у камина, посасывая бургундское. А тут недосягаемые эти соблазны под боком, разве что камина нет. К тому же и психологические извивы вокруг любовей и измен перестали трогать и не все понятно, а когда субтитры – и вовсе путаешься. И если ходил он раз в три-четыре месяца в кино, то, главным образом, на вестерны или Бельмондо, где драки, погони, стрельба, очень ловко, даже красиво у него это получается.
И вообще, говорил Ашот, выяснилось вдруг, что я почти ничего не читал, преступно мало. Открыл вот Марка Алданова, замечательный писатель. А кто у нас его знает? Или Набоков. Слыхал только, что есть какая-то очень неприличная «Лолита», а он, оказывается наворотил Бог знает сколько. Я невеликий любитель стилистов, утомляют они меня, вот читаю сейчас «Другие берега», штука автобиографическая, оторваться нет сил. Великий писатель. А у нас считается порнографическим, запрещен.
Ашот записался в Тургеневскую библиотеку и раз в месяц приволакивал оттуда горы книг – читатель он был аккуратный, и ему разрешали брать по десять-пятнадцать зараз. В основном, русских. С французскими было хуже, без словаря не шло. У Анриетт была своя полочка – в основном, стариков, к нынешним новшествам и «новым романам» она относилась сдержанно.
Ну, а Мадагаскар? Тот самый, на который, по мнению Романа, Ашоту всегда можно поехать? Далековато… Но вот во Флоренцию взяли как-то да и двинули. «Черт знает что, – сказал по какому-то поводу, просто так, к слову Ашот. – Приехали в Париж и сидим как вкопанные, а рядом Швейцария, Италия, всякие там Шильонские замки, галерея Уффици…» Анриетт посмотрела на него и сказала: «Давай поедем в Уффици. А? И на Давида посмотрим». И они поехали смотреть Уффици и микеланджеловского Давида. Подвернулся «мост» – уик-энд плюс какой-то праздник и два дня отгула, покупку нового холодильника отменили, сели в свой «рено-5» и покатили через леса и горы, туннель под Монбланом во Флоренцию. Ах, какая это была неделя! Потом такой же вольт сделали с Испанией, с Барселоной. Попали даже на бой быков. С тех пор все это называлось Мадагаскаром.
Но, в общем-то, жизнь текла тихо и спокойно – работа, дом, книги, вечерние чаепития по русскому обычаю.
И вдруг случилось чудо. Как-то посреди ночи зазвонил телефон. Вероятно, ошибка, подумал Ашот, но трубку все же снял.
– Ж'экут, – сказал он по-французски.
– А по-русски нельзя? – раздался знакомый голос.
– Ч-черт! Сашка!
– Он самый.
– Откуда?
– С де Голля вашего, аэропорта.
– Ясно, – Ашот рассмеялся. – Деваться некуда?
– Не будь сукой.
– Прости, но ты знаешь, который сейчас час?
– Повторяю, не будь. В твоем возрасте в этот час надо как раз у девок быть, а не дома валяться.
– Ладно, замнем для ясности. Что тебе надобно, старче?