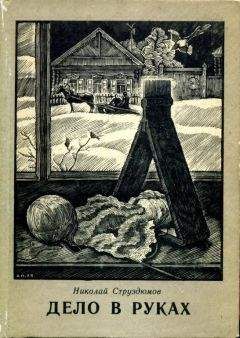А наутро встают, за головы держатся. Я им по рюмке налила из припрятанного, холодные помидорчики, лапшу с курятиной — на стол. Первое это средство от похмелья — жирная горячая лапша. Ну, выпили, закусили, отходить начали. Я им: ну, говорю, собираться надо. Куда это? — Павлуша спрашивает. Как куда? В свой поселок вчера же решили ехать! Да брось, говорит, мам, могил я не видал, что ли. Они все, говорит, одинаковые. Да ведь там не одни, говорю, могилы. Там живы люди есть. Родные твои есть. Да я и билеты, мол, купила — Обманываю, конечно. Что это, говорю, за неуважение к своим родным. А сама еще им по рюмке. Ладно, опять он говорит, гулять так гулять. Поехали!
— А что же это вы, тетя Лиза, сына-то спаиваете? — с улыбкой вставляет муж Анн.
— Да вот взяла грех на душу. Надо ведь было его утянуть на родину.
Помолчав, она продолжает:
— Ну вот. «Поехали!» — он говорит. А у меня уж все готово. Быстро собрались и тронулись. Да так хорошо, так памятно съездили. А там он, правда, меня слушался. И на могилках побывали, и всю родню навестили. А уж насчет гульбы — прямо беда. Любят у нас там погулять. Да сейчас и везде любят. Ну, не так, как в наше время. Пьют-то теперь больше, да только дуреют. А гулять, как в наше время, не умеют.
И она самым подробным образом рассказывает, как гуляли в ее время, по скольку дней на рождество и на Новый год, и на крещение, и что готовили, и какие песни пели, и в какие дни обиды прощали — описывает весь мясоед, прихватывает масленницу и доходит вплоть до самого великого поста.
И вскоре же поясняет, что теперь-то уж того нет, что только малая часть от их прежнего поселка осталась. Обернувшись к куму, который во время ее рассказов потихоньку вернулся и устроился на своем месте, она спрашивает:
— В том дальним конце, у Сакмары-то, сейчас кто живет ли?
— Никого, — отвечает он. — Самы последни, Буксаковы, в позапрошлом году уехали. Там уж все бурьяном поросло.
И они начинают вспоминать, кто куда уехал, когда уехал — до войны или после и кто из родных от тех уехавших остался.
Тетя Лиза печально покачивает головой, вздыхает.
— Говорят, теперь там все больше мордва? — спрашивает она с неудовольствием.
— Да уж мордва-то тоже в основном поуезжали, — следует ответ.
Тетя Лиза снова печально вздыхает. А кум поднимает рюмку и бодро говорит:
— Ну, будем. А ты не горюй, кума.
Выпивши и закусивши, продолжает:
— И вообще, у нас еще ничего. Вон соседни два поселка совсем разбежались. А у нас еще есть личный состав. На случай войны на полроты наскребем. Старух с бабами в обоз поставим.
— А вы сами-то в каком чине собираетесь воевать? — слышится с того конца стола.
— Командиром, конечно. Впереди.
— На кобыле? — подбрасывают оттуда.
— Знамо дело. Пешим не пойду.
За столом становится опять оживленно и шумно. Разговор все набирает силу и высоту, веселые выкрики слышатся чаще. Захмелели уж не только мужики, а и многие из женской половины застолицы. Особенно это заметно по Ане, которая густо разрумянилась, то и дело смеется, жмется к мужу и затевает с ним какое-то заигрывание под столом.
Кум посмотрел на них раз, другой и спрашивает:
— Молодожены, что ль?
— Как раз — молодожены! — хохочет Аня. — У нас старшей дочке уж семнадцать исполнилось.
— А моему внуку скоро двадцать, — подхватывает кум. — Сватьями будем. Придет из армии — приедем сватать.
— Приезжайте!
— Договорились. А пока, сваха, передай-ка мне во-он то, что там на сковороде — курина ножка вроде.
И с этой минуты уж все — он ее зовет только свахой, а ее мужа Федора — только сватом.
А веселье нарастает. Говорят громче и громче. Говорят все, перебивая друг друга. Потом наступает момент, когда говорить вроде надоело. И вот уж с одного конца стола заводят:
На горе-е колхоз да под горо-ой совхоз,
А мой милый мне да задавал вопрос.
Но это еще не песня. Это так — шутливый зачин для смеху. Смехом он и кончается.
Опять нарастает разговор. И вдруг прямо из него поднимается какой-то дикий, ни с чем не сообразный голос и начинает выпевать нечто никем не знаемое:
За ле-е-сом со-олнце воссия-а-а-ла-а-а…
Где черный ворон прокрича-ал…
Все как-то настораживаются, смолкают. А он тут же переходит на растяжливый повтор.
За ле-е-сом со-олнце воссия-а-а-ла-а-а…
Этот повтор — видимо, для хора. И хотя он вряд ли надеется, что поддержат, он все-таки выводит его по всем правилам старого напева. Вероятнее всего, сила привычки.
Слеза-а на грудь его скатилась,
В последний раз сказал: «Прощай…»
И опять растяжливый повтор.
И пошли одна за другой песни, в которых — и надрыв, и неизбежность судьбы, и прощание с тоскливыми предчувствиями, и дыхание близкой смерти. И непременно полузарубленный воин посреди степи, а над ним черный ворон кружит в ожидании близкой и страшной кормежки. Слушая это, никогда не слышанное и не знаемое, вы в какой-то момент обязательно почувствуете: что-то такое все же когда-то слышали и знали, только оно было глубоко запрятано, а теперь начинает пробуждаться. И вас охватывает какая-то сладкая, душу терзающая жуть.
В одну из пауз между песнями тетя Лиза вдруг начинает вспоминать:
— Да, уж они попели в свое время — вот кум Петр Лексеич, мой да еще Григорий Кузьмич. Ни одна гулянка, бывало, без их песен не обходилась.
Кум слушает ее с грустью. Потом запевает «Черный ворон, ты не вейся надо мной». И поет уж он не один — упорно вытягиваемые повторы сделали свое, и ему стали подпевать почти все, старательно под него подлаживаясь. Потом поют опять про ворона и опять. Потом:
Эх, вспомним, братцы, да мы, кубанцы,
Двадцать первого сентября,
Как сражались мы с германцем…
И, наконец, допелись: Петр Лексеич пристукнул кулаком по столу и застонал: «Э-эх, кума! Мы ж с твоим-то, с кумом-то… В том, в сорок первом-то… до самой Орши. Э-эх», — и заплакал пьяными слезами.
— Да-а, до самой Орши, — стонал он, — эшелоны прям след в след шли… А от Орши-то нас — на север, а их дальше — в само что ни на есть в пекло.
Слезы у него вдруг высыхают, и он продолжает уж ровнее:
— А под послед-то он и не говорил ни с кем: сидит угрюмый, свирепый, как зверь, глаза кровью налились. Я уж с ним грешным делом цапнулся. До сего не могу простить себе этого…
Он молчит некоторое время, вздыхает, потом наливает себе, поднимает и говорит, обращаясь к тому, которого давно уж нет: «Ну, годо́к, пусть земля тебе будет пухом!» — и выпивает, ни с кем не чокаясь и никого не дожидаясь.
— Да-а, вот как чуял человек свою смерть, — продолжает он. — А иные плачут. Прям плачет, как женщина. А другой веселится. Так веселится, что мороз по коже.
На некоторое время наступает что-то вроде паузы, когда шутки не клеятся, смех быстро гаснет, разговор не идет. И песни без кума никто больше заводить не решается.
Потом Вера заявляет, что не хватает музыки, и отправляется за нею к соседям.
Возвращается она с проигрывателем и подругой тех же лет, когда она жила еще у тети Лизы. Подруга эта — говорливая, румяная и хохотушка.
С ее приходом в избе сразу становится, шумнее, даже будто звонче.
Федор устанавливает, отлаживает и заводит проигрыватель. Вера с подругой и Света с Олей идут танцевать. Скоро у них четверых там уж начинается свой разговор и свой смех.
А крепко захмелевший кум заскучал без песен, без разговоров и кричит им:
— Давай «Барыню», чего они там дребезжат! «Барыню» давай!
Но «Барыни» нет, и он вынужден смириться и начинает отстукивать своей уцелевшею, здоровою ногой под те ритмы, которые выдает долгоиграющая пластинка.
Зятья же пододвинули поближе к себе бутылку и старательно добирают до кондиции.
А тетя Лиза тем временем налаживает чаи, кормит Светланку, старается развлечь кума разговорами, таскает на кухню грязную посуду и одновременно следит, чтобы танцующие не задели бы и не испортили паутинку. Наконец, Аня берет ее за руку и насильно усаживает возле себя. А хлопоты с посудой и возле стола препоручаются Вере, которая тут же берет себе в помощницы свою подругу и Свету с Олей.
Аня же с тетей Лизой начинают говорить о чем-то своем, что-то вспоминают. Аня делится какими-то своими секретами, на кого-то пеняет, спрашивает советы-о том о сем и, наконец, о платках. И вот уж в руках у тети Лизы Анина пуховка. И оттуда сквозь шум, разговоры и музыку слышится:
— Вечный — пуху много вложено и пряжа добротно сделана. А вот тут и тут пореже надо было.
Следуют какие-то возражения, затем опять голос тети Лизы: