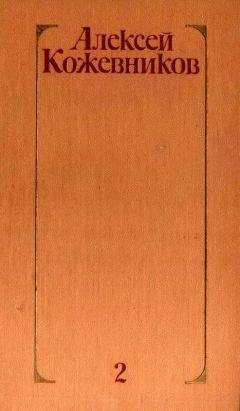Палец побродил-побродил по списку и остановился над Туруханском.
— Есть у нас что-нибудь свободное? Найди! — приказал владыка писарю.
Он хотел загнать Василия подальше, но не знал, где дальше, где ближе и испугался, что вместо кары даст милость.
«Станок Игарка. Ниже Туруханска, дворов один, душ мужска пола одна, женска одна и детска одна», — нашел писарь.
— Добро, — сказал владыка. — Василий Александрович Рябинин поедет в Игарку.
Казенный катер доставил Василия к Игарке.
— Принимай гостя! — объявил полицейский. — Да присматривай за ним, поглядывай! Упустишь — сам пойдешь в ссылку.
— Сослать меня, однако, трудно, разве что в Дудинку. Только не страшно: мы и подальше бывали, — отозвался Игарка.
— Найдем место. Найдем. Холоду не боишься — в жару загоним. Ну-с, счастливо оставаться! — Полицейский звякнул саблей, сделал «под козырек» и уехал.
Время было позднее, близилось к полуночи, но в северной стороне неба плавал желтый кружок солнца, в восточной — бледный кружок луны. Солнце второй месяц не покидало неба, светило без заката, но ведь и луне тоже охота посветить, и она в полуночные часы выходит на небо, пользуясь тем, что солнце в эти часы немножко меркнет.
У костра, около избенки, Игарка чистил на ужин рыбу, а Василий все оглядывал небо, — солнечное и в полуночь! — корявый реденький лесок, — под таким-то солнцем! — огромную пустую реку и упорно молчал, про себя дивился на странный вид далекого северного края.
Игарка раза два кряком намекал гостю, что пора и поговорить, миновал целый день. А гость все молчал. Тогда Игарка осторожно тронул его локтем.
— Как ты сподобился?
«Началось», — с досадой подумал Василий. Все, с кем ни встречался он за год следствия, тюрьмы и этапов, настойчиво старались проникнуть в его жизнь — как зовут, откуда родом, за что идет в ссылку, дальше, глубже, вплоть до шестого колена. Но Игарка оказался не любопытным.
— Меня одно забавит: за что тебя ко мне передвинули? За самовольную отлучку?
— Да.
— За сестрино письмо, значит… Это ничего, это к добру. Места наши не хуже туруханских, лучше даже… определеннее. Летом день — так день, играет два месяца, а зимой ночь — так уж ночь, подлинная, без примеси. Ты не тоскуй, вот увидишь, жизнь совсем хорошо пойдет. Давай-ка подумаем, как нам жить и горевать легче. Я про хозяйство: отдельно будешь вести аль заодно со мной?
Василий сказал, что для хозяйства у него ровно ничего нет, полагается ему от царя небольшое пособие, но царь платить не торопится, да и брать от него неохота.
— Я — плохой пайщик.
— А я думаю — ничего: ноги, руки, голова есть. Если уж постигла участь жить под одной крышей, работать и есть надо тоже заодно. Меня ты не обидишь, скорей я обижу тебя.
Считаться и взвешивать не стали, и договор состоялся.
Василий поселился в шалаше, который остался от старика Яртагина: изрядно потрепанный, шалаш все же годился для жилья в летнее время, а на зиму Игарка задумал сделать к избенке пристрой. Работы было много: Ландуру насолить шесть бочек рыбы, поставить двадцать саженей дров, собрать три пуда гусиного пуху; для пристроя заготовить бревна и доски, налепить кирпичей для печки, потом рыбачить и бить птицу на текущий прокорм. В тихую погоду рыбачили, в бурную валили бревна, делали кирпичи, ставили дрова, — работали с ожесточением, до хруста в суставах.
По мере того как бочки наполнялись рыбой, а поленницы дров становились длинней и выше, Игарка все больше светлел лицом, мысленно он уже расплатился с Ландуром, Василия одел в новую теплую одежду и уступил ему под жилье весь пристрой, помог Большому Сеню, принял и угостил Вакуйту, Нельму и маленького Яртагина порадовал подарками.
Василий же день ото дня делался темней, задумчивей. Одна мысль, нетерпеливая и жгучая мысль о побеге, владела его сердцем и воображением. Когда Василий работал, она ехидничала: «Ломай, ломай! Ландур еще купит пароход, а Игарка отстроит дворец», — и у Василия падали руки, бессильно сгибалась спина.
Он бросал работу, хватал ружье и убегал в лес, чтобы забыться в погоне за птицей и зверем. Но всякий раз это кончалось одинаково: Василий проходил мимо озер и болот, где густо гнездилась непуганая птица, сквозь леса, где таилось зверье, и высчитывал, сколько же надо времени, чтобы выбраться отсюда, — а ружье бесполезно болталось у него за плечами.
«Многонько, — хихикала мысль, — ходьба-то трудная: озера, болота, землица-а — не найдешь плотного местечка: всюду топь по колено. Но это ничего, это ерунда: ниже ведь мерзлота вечная… смело иди, напрямик, выше колена не увязнешь».
Если он слышал гогот и кряк птиц, шорох поднятого зверя, то мысль начинала трубить: «Что тебе до них, до этой жалкой земли, до всего, что на ней! Все, что озарено вот этим назойливым бессонным солнцем, все решительно — тюрьма! И солнце — тюрьма. Попробуй скройся при таком солнце!»
Иногда он подолгу застаивался над Енисеем, глядел на могучий ток воды и думал с ожесточением: «Не туда бежишь, не туда!» Спокойно, величаво, неудержимо уходила река в Ледовитое море, в смерть, и это было невыносимо для человеческого сердца.
Василий высчитал, что, если Игарка не помешает ему, к осени он доберется до Красноярска. Но Игарка казался подозрительным, знает только одно имя и спокоен, вступил в договор на общую жизнь и работу, избенку держит открытой, доверяет лодку, ружье.
Что это — тупое ко всему равнодушие или деликатность? Деликатность Василий откинул, негде было Игарке учиться этому, в равнодушие не верил, такие, как Игарка — охотники, рыбаки, таежники, — осторожны и подозрительны, жизнь живут — идут будто по звериному следу. И Василий решил испытать Игарку. Для начала взял ружье и сутки шатался в лесу. Игарка не выказал ни любопытства, ни подозрений. В другой раз Василий тайком снарядил лодку и пропадал трое суток, а Игарка как будто и не заметил этого. Вечером, когда вышли на крыльцо покурить и погадать, какой день будет завтра — погожий или непогожий, — Василий сказал:
— Что же ты, Игар Иваныч, не спросишь, кто я?
— Это к чему же спрашивать? Со временем скажется и так, без спросу.
— А если я душегуб, разбойник… плохо может сказаться.
— Небось генерала кокнул?
— Двух.
— Ишь ты какой — двух генералов… — Игарка проницательно глядел на Василия, старался понять, какая нужда заставила его поднимать этот разговор, странный и лживый. Генералов Игарке убивать не случалось, по этой части нет у него никакого опыта, но он все же не младенец, с людьми живет не первый день, не первый раз ведет разговор, похожий на этот, не в новость ему встречаться с такими, как Василий, с опальными, ссыльными, поднадзорными.
Каждый год идут эти люди по Енисею, одни в ссылку, другие домой по отбытии наказания, иные идут по собственной воле. Игарка немало перевидал этих людей: кого проводил сквозь порог по всем правилам, днем, с записью в книгу, кого без правил и без записи, ночью, а кое-кого — в обход, тайгой.
У лоцманов Ширяевых еще от Дорофея было принято в лоцманской помощи не отказывать никому — и самому страшному преступнику, о котором на порог дан приказ: задержать. Смолоду знали Ширяевы, тоже по прадедовскому завету, что не сторожа они и не судьи, а лоцманы, их дело — помогать людям на реке, помогать, не спрашивая, кто они, куда идут, с какими замыслами. И завет этот — первый, самый высокий закон для лоцмана, выше царского.
Много поработал Егор по завету. Старому лоцману отлучиться нельзя, он — как часовой на посту. Павел, Петр и Веньямин связаны, у них жены и дети, Егор — самый подходящий: ходить может сколько угодно, тосковать о нем некому, случится беда, не останется от него ни вдовы, ни сирот.
Идут, бывало, тайгой, идут долго, сутками, идет и разговор; дорога вертится как пьяная, в обход жилью, и разговор тоже будто по-пьяному, стороной от главного. А главное у каждого свое. Один боится, что Егор подкуплен и ведет не в тайное безопасное место, а прямо на заставу. Ему надо подсказать Егору мысль, что за него вряд ли он что-нибудь получит, — и человек несет на себя всякую обидную небылицу: он и глупый, и трусливый, и ничего не сделал, и сделать не способен, в ссылку попал по ошибке, бедствует не по убеждению и упорству, а случайно.
Другой тоже боится, но действует по-иному, не жалобит Егора, а пугает: я — закоренелый, я двенадцать человек зарезал, для меня это дело одной минуты. Понимать надо так: вздумаешь предать меня — я тебя кокну, я успею и при стражниках, на заставе.
Были еще одни: эти не гордились, не пугали никого и не боялись сами, шли спокойно, как по обыкновенному будничному делу. Казалось, нет у них о себе ни дум, ни слов, все слова и думы о жизни, удивительное было к ней внимание. Сами из чужой, далекой стороны, в Сибири оказались по принуждению, вот бегут из нее, а зачем-то хотят узнать все и выспросить: как живут лоцманы на пороге, как рыбаки, охотники, какие торгуют купцы. Видно, что оторвали их от простого дела, от заводов, от фабрик, от полей. Хорошие, душевные люди.