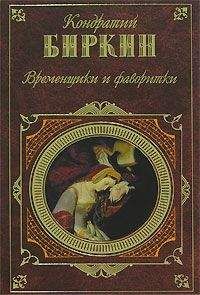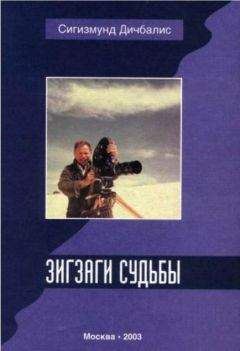Предупреждаю: научно доказано, что попытки распутать ассоциативные нити и изъять чужеродный, ввившийся в них образ только вернее закрепляют его в сознании. О, мне издавна мечталось после всех неудачных опытов со своим "я" попробовать вселиться хотя бы в чужое. Если Вы сколько-нибудь живы, мне это уже удалось. До скорого".
Строки обрывались. Глаза Штамма с разгону еще секунду-другую продолжали скользить по пустой синей линейке тетради. Потом круто стали.
Штамм повернул лицо к двери. Поднялся. До двери было шесть шагов. Третья справа: да, под пальцами ясно прощупывалась узкая дыра.
Внезапно он рванул дверь и бросился наружу. Но тотчас же пальцы уткнулись в коридорную стену. В коридоре было тихо и темно. Лишь через полуоткрытую дверь проникала узкая полоса света. Она помогла Штамму рассмотреть: почти у самых глаз белела цифра "25". С минуту он стоял не шевелясь: ему нужен был какой-нибудь живой звук: хотя бы звук человеческого дыхания. За чужой, закрытой дверью, наверно, спали: и Штамм прижался ухом к цифре, жадно вслушиваясь. Но слышал лишь свою кровь, тершуюся о жилы.
Постепенно овладевая собой, он вернулся назад, к порогу. Вошел и плотно прикрыл дверь. Опять сел к столу. Рукопись ждала. Штамм отодвинул ее и прикрыл сверху книгой. Поверх книги положил портфель. Длилась все та же черная ночная тишь. Вдруг внезапно (в Москве это бывает) проснулась где-то близко колоколенка, зазвонила бестолково, но истово, изо всей мочи стукаясь колоколами о тишину. И вдруг - как оборвало. Растревоженная медь еще с минуту гудела низким, медленно никнущим гудом - и тишь сомкнулась вновь. Понемногу за окном начинало светлеть. Сизое предзорие, налипая на стекла, медленно вползло в комнату. Штамм придвинулся к окну. Возбуждение в нем постепенно утишалось. Теперь сквозь двойные промерзшие стекла были видимы: и медленно окунавшиеся в рассвет железные кузова запрокинувшихся крыш-кораблей, и ряды черных оконных дыр под ними, и изломы переулочных щелей внизу: в щелях было безлюдие, мертвь и молчь.
- Его час, - прошептал Штамм и почувствовал, будто петлей стиснуло горло.
Издалека, с окраин, протянулся ровный и длинный бас гудка.
- Интересно, придет ли еще раз тот: живой.
Теперь Штамм уже снова был - или ему мнилось, что был, - прежним Штаммом, даже почти Идром.
Только сейчас он заметил: синие розаны на стенах были в тонком, в ниточку, белом обводе.
- Что ж, - пробормотал Штамм, впадая в раздумье, - другой комнаты, пожалуй, не сыскать. Придется остаться. И вообще: мало ли что придется.
Глава I
У ВСЯКОГО БАРОНА СВОЯ ФАНТАЗИЯ
Прохожий пересек Александер-плац и протянул руку к граненым створам подъезда. Но в это время из звездой сбежавшихся улиц кричащие рты мальчишек-газетчиков:
- Восстание в Кронштадте!
- Конец большевикам!
Прохожий, сутуля плечи от весенней зяби, сунул руку в карман: пальцы от шва до шва - черт, ни пфеннига. И прохожий рванул дверь.
Теперь он подымался по стлани длинной дорожки; вдогонку, прыгая через ступеньки, грязный след.
На повороте лестницы:
- Как доложить?
- Скажите барону: поэт Ундинг.
Слуга, скользнув взглядом со стоптанных ботинок посетителя к мятой макушке его рыжего фетра, переспросил:
- Как?
- Эрнст Ундинг.
- Минуту.
Шаги ушли - потом вернулись, и слуга с искренним удивлением в голосе:
- Барон ждет вас в кабинете. Пожалуйте.
- А, Ундинг.
- Мюнхгаузен.
Ладони встретились.
- Ну вот. Придвигайтесь к камину.
С какого конца ни брать, гость и хозяин мало походили друг на друга: рядом - подошвами в каминную решетку - пара лакированных безукоризненных лодочками туфель и знакомые уже нам грязные сапоги; рядом - в готические спинки кресел - длинное с тяжелыми веками, с породистым тонким хрящем носа, тщательно пробритое лицо и лицо широкоскулое, под неряшливыми клочьями волос, с красной кнопкой носа и парой наежившихся ресницами зрачков.
Двое сидели, с минуту наблюдая пляску синих и алых искр в камине.
- На столике сигары, - сказал наконец хозяин. Гость вытянул руку: вслед за кистью поползла и мятая в цветные полоски манжета: стукнула крышка сигарного ящика - потом шорох гильотинки о сухой лист, потом серый пахучий дымок.
Хозяин чуть скосил глаза к пульсирующему огоньку.
- Мы, немцы, научились обращаться даже с дымом. Глотаем его, как пену из кружки, не дав докружить и постлаться внутри чубука. У людей с короткими сигарами в зубах и фантазия кургуза. Вы разрешите...
Барон, встав, подошел к старинному шкафу у Стены, остро тенькнул ключик, резные тяжелые створы распахнулись - и гость, повернувшись глазами и огоньком вслед, увидел: из-за длинной и худой спины барона на выгибах деревянных крючьев шкафа старый, каких уже не носят лет сто и более, в потертом шитье, камзол; длинная шпага в обитых ножках; изогнутая в бисерном чехле трубка; наконец, тощая, растерявшая пудру косица, срезом вниз - бантом на крюке.
Барон снял трубку и, оглядев ее, вернулся на старое место. Через минуту кадык его выпрыгнул из-под воротничка, а щеки вытянулись внутрь навстречу дыму, переползавшему из чубука в ноздри.
- Еще меньше мы смыслим в туманах, - продолжал курильщик меж затяжками, - начиная хотя бы с туманов метафизических. Кстати, хорошо, Ундинг, что вы заглянули сегодня: завтра я намереваюсь нанести визит туманам Лондона. Заодно и живущим в них. Да, белесые флеры, подымающиеся с Темзы, умеют расконтуривать контуры, завуалировать пейзажи и миросозерцания, заштриховать факты и... одним словом, еду в Лондон.
Ундинг встопорщил плечи:
- Вы несправедливы к Берлину, барон. Мы тоже кой-чему научились: например, эрзацам и метафизике фикционализма.
Но Мюнхгаузен перебил:
- Не будем возобновлять старого спора. Кстати, более старого, чем вам мнится: помню, лет сто тому назад мы проспорили всю ночь с Тиком на эту тему, правда в иных терминах, но меняет ли это суть? Он сидел, как вот вы, справа от меня, и, стуча трубкой, грозился ударить снами по яви и развеять ее. Но я напомнил ему, что сны видят и лавочники, а веревка под лунным светом хотя и похожа на змею, но не умеет жалить. С Фихте, например, мы пререкались куда меньше: "Доктор, - сказал я философу, - с тех пор, как "не-я" выпрыгнуло из "я", ему следует почаще оглядываться на свое "откуда". В ответ герр Иоганн вежливо улыбнулся.
- Разрешите мне улыбнуться не столь вежливо, барон. Это противится критике не больше, чем одуванчик ветру. Мое "я" не ждет, когда на него оглянется "не-я", а само отворачивается от всяческих не. Так уж оно воспитано. Моей памяти не дано столетий, - поклонился он в сторону собеседника, - но нашу первую встречу, пять недель тому, я как сейчас помню и вижу. Доска столика под мрамор, случайное соседство двух кружек и двух пар глаз. Я - глоток за глотком, вы же сидели не касаясь губами стекла, и только изредка - по вашему кивку - кельнер на место невыпитой рюмки приносил другую, остававшуюся тоже не выпитой. Когда хмелем чуть замглило голову, я спросил, что вам, собственно, надо от стекла и пива, если вы не пьете. "Меня интересуют лопающиеся пузырьки,- отвечали вы, - и когда они все лопнут, приходится заказывать новую порцию пены". Что ж, всякий развлекается на свой лад, мне вот в этой жиже нравится ее поддельность, суррогатность. Пожав плечами, вы оглядели меня - напоминаю вам это, Мюнхгаузен, - как если бы и я был пузырьком, прилипшим к краю вашей кружки...
- Вы злопамятны.
- Я памятлив на всякое: до сих пор еще в моем мозгу кружит пестрая карусель, завертевшаяся там, у двух сдвинутых кружек. Мы пересекали с вами моря и континенты с быстротой, опережающей кружение земли. И когда я, как мяч меж теннисных ракеток, перешвыриваемый из стран в страны, из прошлого в грядущее и отбиваемый назад в прошлое, выпав случайно из игры, спросил: "Кто вы такой и как вам могло хватить жизни на столько странствий?", - вы - с учтивым поклоном - назвали себя. От поддельного пива и опьянение поддельно и запутывающе, реальности лопаются, как пузыри, а фантазмы втискиваются на их место, - вы иронически качаете головой? Но знаете, Мюнхгаузен, - между нами - как поэт, я готов верить, что вы - вы, но как здравомыслящий человек...
В разговор всверлился телефонный звонок. Мюнхгаузен протянул длиннопалую руку, с овалом лунного камня на безымянном, к аппарату:
- Алло! Кто говорит? А, это вы господин посол? Да, да. Буду: через час.
И трубка легла на железные вилки.
- Видите ли, любезный Ундинг, признание поэтом моего бытия мне чрезвычайно льстит. Но если бы вы даже перестали верить в меня, Иеронима фон Мюнхгаузена, то дипломаты не перестанут. Вы подымаете брови: почему? Потому что я им необходим. Вот и все. Бытие де-юре, с их точки зрения, ничем не хуже бытия де-факто. Как видите, в дипломатических пактах гораздо больше поэзии, чем во всех ваших виршах.