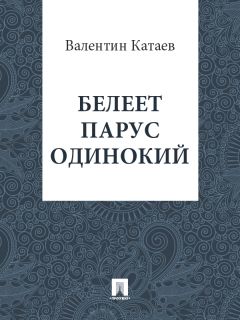— Хорошо, хорошо, только не всё сразу. Иди в комнаты. А где же Василий Петрович?
— Здесь, здесь…
По лестнице поднимался отец:
— Ну, вот и мы. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
— С приездом, с приездом! Пожалуйте. Не укачало вас?
— Ничуть. Прекрасно доехали. Нет ли у вас мелочи? У извозчика нет с трех рублей сдачи.
— Сейчас, сейчас. Вы только не беспокойтесь… Петя, да не путайся же ты под ногами… После расскажешь. Дуня, голубчик, сбегайте вниз — отнесите извозчику… Возьмите у меня на туалете…
Петя вошел в переднюю, показавшуюся ему просторной, сумрачной и до такой степени чужой, что даже тот черномазый большой мальчик в соломенной шляпе, который вдруг появился, откуда ни возьмись, в ореховой раме забытого, но знакомого зеркала, освещенного забытой, но знакомой лампой, не сразу был узнан.
А его-то, кажется, Петя мог узнать без труда, так как это именно и был он сам!
Там, в экономии, была маленькая, чисто выбеленная комнатка с тремя парусиновыми кроватями, покрытыми летними марсельскими одеялами.
Железный рукомойник. Сосновый столик. Стул. Свеча в стеклянном колпаке. Зеленые решетчатые ставни-жалюзи. Крашеный пол, облезший от постоянного мытья.
Как сладко и прохладно было засыпать, наевшись простокваши с серым пшеничным хлебом, под свежий шум моря в этой пустой, печальной комнате!
Здесь было совсем не то.
Это была большая квартира, оклеенная старыми бумажными шпалерами и заставленная мебелью в чехлах.
В каждой комнате шпалеры были другие и мебель другая. Букеты и ромбы на шпалерах делали комнаты меньше. Мебель, называвшаяся здесь «обстановка», глушила шаги и голоса.
Из комнаты в комнату переносили лампы.
В гостиной стояли фикусы с жесткими вощеными листьями. Их новые побеги торчали острыми стручками, как бы завернутыми в сафьяновые чехольчики.
Свет переставляемых ламп переходил из зеркала в зеркало. На крышке пианино дрожала вазочка: это по улице проезжали дрожки. Треск колес соединял город с домом.
Пете ужасно хотелось, поскорее напившись чаю, выбежать хоть на минуточку во двор — узнать, как там и что, повидаться с мальчиками. Но было уже очень поздно: десятый час. Все мальчики, наверно, давно спят.
Хотелось поскорее рассказать тете или, на худой конец, Дуне про беглого матроса. Но все были заняты: стелили постели, взбивали подушки, вынимали из комода тяжелые, скользкие простыни, переносили из комнаты в комнату лампы.
Петя ходил за тетей, наступая на шлейф, и канючил:
— Тетя, что же вы меня не слушаете? Послушайте!..
— Ты видишь, я занята.
— Тетя, ну что вам стоит!
— Завтра расскажешь.
— Ой, какая вы в самом деле! Не даете рассказать. Ну тетя же!
— Не путайся под ногами. Расскажи Дуне.
Петя уныло плелся на кухню, где на окне в деревянном ящике рос зеленый лук.
Дуня торопливо гладила на доске, обшитой солдатским сукном, наволочку. Из-под утюга шел сытный пар.
— Дуня, послушайте, что с нами было… — жалобным голосом начинал Петя, глядя на Дунин голый жилистый локоть с натянутой глянцевитой кожей.
— Панич, отойдите, а то, не дай бог, обшмалю утюгом.
— Да вы только послушайте!
— Идите расскажите тете.
— Тетя не хочет. Я лучше вам расскажу. Ду-уня же!
— Идите барину расскажите.
— Ой, боже мой, какая вы глупая! Папа же знает.
— Завтра, панич, завтра…
— А я хочу сегодня…
— Отойдите из-под локтя. Мало вам комнат, что вы еще в кухню лазите?
— Я, Дунечка, расскажу и сейчас же уйду, честное благородное слово, святой истинный крест!
— От наказание с этим мальчиком! Приехал на мою голову.
Дуня с сердцем поставила утюг на конфорку. Схватила выглаженную наволочку и бросилась в комнаты так стремительно, что по кухне пролетел ветер.
Петя горестно потер кулаками глаза, и вдруг его одолела такая страшная зевота, что он с трудом дотащился до своей кровати и, не в состоянии разлепить глаза, начал, как слепой, стаскивать матроску.
Он едва дотянулся разгоревшейся щекой до подушки, как тотчас заснул таким крепким сном, что даже не почувствовал бороды отца, пришедшего, по обычаю, поцеловать его на сон грядущий.
Что касается Павлика, то с ним пришлось-таки повозиться. Он до того разоспался на извозчике, что папа и тетя вместе раздели его с большим трудом.
Но едва его уложили в постель, как мальчик открыл совершенно свежие глаза, с изумлением осмотрелся и сказал:
— Мы еще едем?
Тетя нежно поцеловала его в горячую пунцовую щечку:
— Нет, уже приехали. Спи, детка.
Но оказалось, что Павлик уже выспался и склонен был к разговорам:
— Тетя, это вы?
— Я, курочка. Спи.
Павлик долго лежал с широко открытыми, внимательными, темными, как маслины, глазами, прислушиваясь к незнакомым городским звукам квартиры.
— Тетя, что это шумит? — наконец спросил он испуганным шепотом.
— Где шумит?
— Там. Храпит.
— Это, деточка, вода в кране.
— Она сморкается?
— Сморкается, сморкается. Спи.
— А что это свистит?
— Это паровоз свистит.
— А где?
— Разве ты забыл? На вокзале. Тут у нас напротив вокзал. Спи.
— А почему музыка?
— Это наверху играют на рояле. Разве ты уже забыл, как играют на рояле?
Павлик долго молчал.
Можно было подумать, что он спит. Но глаза его — в зеленоватом свете ночника, стоявшего на комоде, — отчетливо блестели. Он с ужасом следил за длинными лучами, передвигающимися взад и вперед по потолку.
— Тетя, что это?
— Извозчики ездят с фонарями. Закрой глазки.
— А это что?
Громадная бабочка «мертвая голова» со зловещим зуденьем трепетала в углу потолка.
— Бабочка. Спи.
— А она кусается?
— Нет, не кусается. Спи.
— Я не хочу спать. Мне страшно.
— Чего ж тебе страшно? Не выдумывай. Такой большой мальчик! Ай-яй-яй!
Павлик глубоко и сладко, с дрожью втянул в себя воздух. Схватил обеими горячими ручонками тетину руку и прошептал:
— Цыгана видели?
— Нет, не видела.
— Волка видели?
— Не видела. Спи.
— Трубочиста видели?
— Трубочиста не видела. Можешь спать совершенно спокойно.
Мальчик еще раз глубоко и сладко вздохнул, перевернулся на другую щечку, подложил под нее ладошки ковшиком и, закрывая глаза, пробормотал:
— Тетя, дайте ганьку.
— Здравствуйте! А я-то думала, что ты от ганьки давно отвык.
«Ганькой» назывался чистый, специальный носовой платок, который Павлик привык сосать в постели и без которого никак не мог уснуть.
— Га-аньку… — протянул мальчик, капризно кряхтя.
Однако тетя ганьки не дала. Большой мальчик. Пора отвыкать. Тогда Павлик, продолжая капризничать, потянул в рот угол подушки, обслюнил его, вяло улыбнулся слипшимися, как вареники, глазами. Но вдруг он с ужасом вспомнил про копилку: а что, если ее украли воры? Однако уже не было сил волноваться.
И мальчик мирно уснул.
В этот же день другой мальчик, Гаврик — тот самый, о котором мы вскользь упомянули, описывая одесские берега, — проснулся на рассвете от холода.
Он спал на берегу возле шаланды, положив под голову гладкий морской камень и укрыв лицо старым дедушкиным пиджаком. На ноги пиджака не хватило.
Ночь была теплая, но к утру стало свежо. Босые ноги озябли. Гаврик спросонья стянул пиджак с головы и укутал ноги. Тогда стала зябнуть голова.
Гаврик начал дрожать, но не сдавался. Хотел пересилить холод. Однако заснуть было уже невозможно.
Ничего не поделаешь, ну его к черту, надо вставать.
Гаврик кисло приоткрыл глаза. Он видел глянцевое лимонное море и сумрачную темно-вишневую зарю на совершенно чистом сероватом небе. День будет знойный. Но пока не подымется солнце, о тепле нечего и думать. Конечно, Гаврик свободно мог спать с дедушкой в хибарке. Там было тепло и мягко. Но какой же мальчик откажется от наслаждения лишний раз переночевать на берегу моря под открытым небом?
Редкая волна тихо, чуть слышно, шлепает в берег. Шлепнет и уходит назад, лениво волоча за собой гравий. Подождет, подождет — и снова тащит гравий обратно, и снова шлепнет.
Серебристо-черное небо сплошь осыпано августовскими звездами. Раздвоенный рукав Млечного Пути висит над головой видением небесной реки.
Небо отражается в море так полно, так роскошно, что, лежа на теплой гальке, задрав голову, никак не поймешь, где верх, а где низ. Будто висишь среди звездной бездны.
По всем направлениям катятся, вспыхивая, падающие звезды.
В бурьяне тыркают сверчки. Где-то очень далеко на обрыве лают собаки.