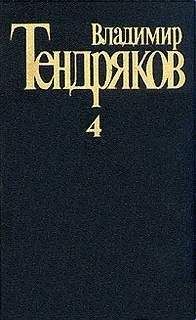— Врет, наверно, твой Костя, — нерешительно возразил Родька.
— Костя-то!
Венька перебил:
— Я и от других слышал.
— Ну, а коли правда, тогда что это?
— Кто его знает.
Снова замолчали, на этот раз уставились только на колокольню.
— Нечистая сила будто там, — робко высказался Васька.
— Вранье! — обрезал Родька. — Бабья болтовня! Была бы нечистая сила, тогда и бог был бы.
— Но ведь Костя-то Шарапов в бога не верил, а я сам слышал, как он рассказывал, с места мне не сойти, если вру.
— И я что-то слышал, только не от Кости, — подтвердил Венька.
— Ребята! — Родька вскочил с земли, снова сел, взволнованно заглядывая то в Васькино, то в Венькино лицо. — Ребята, пойдемте сегодня в церковь… Вот стемнеет… Сами послушаем. Ну, боитесь?
— Это ночью-то? — удивился Васька.
— Эх ты, уже с первого слова и в кусты. Ты, Венька, пойдешь? Иль тоже, как Васька, испугался?
— А чего бояться-то? Ты пойдешь, и я пойду.
— И то, не на Ваську же нам с тобой глядеть. Правду про него мать говорит, что на девку заказ был, да парень вышел.
— А я что, отказываюсь? — стал защищаться Васька. — Только чего там делать? Ежели и пилит, нам-то какое дело…
— Да ты не ной. Не хочешь идти с нами, не заплачем.
Родька неожиданно пришел в какое-то возбужденно-нервное и веселое настроение. Венька Лупцов делал вид, что ему все равно…
В самой гуще ночи, в глубине села, отмеченного в темноте огоньками, ночной сторож Степа Казачок ударил железной палкой в подвешенный к столбу вагонный буфер — раз, другой, третий, четвертый… Удар за ударом — «дын! дын! дын!» — унылые и однообразные, они поползли над темным влажным лугом, через заросший кустами овражек, где, усталые от ожидания, сидели трое мальчишек, через реку, где под обрывистым берегом недовольно шевелилась весенняя вода, куда-то к железнодорожной насыпи и дальше, дальше, в неизвестность.
— Одиннадцать часов, — прошептал Родька. — Может, пойдем не спеша?
— Рано. Что мы в церкви-то торчать будем? — возразил Венька.
Васька Орехов как-то беззащитно поежился и притих.
Опять принялись ждать.
Венька глухим, утробным, страшным для самого себя голосом продолжал рассказ о том, как его отец когда-то ехал волоком между деревней Низовской и починком Шибаев Двор:
— Лежит он себе в телеге, а лошадь еле-еле идет. Он и поднимается. Дай, думает, подшевелю. Поднялся, видит, чтой-то на дороге светится… Присмотрелся: катится впереди лошади огонечек голубенький. Невелик сам, с кулак так, не больше…
— Ой, Венька, брось уж, и так зябко, — тихо попросил Васька Орехов.
— А ты побегай, погрейся, — предложил Венька. — Значит, огонек катится. А батька молодой тогда был, ничего не боялся. Дай, думает, шапкой накрою…
— Ладно, Венька, — оборвал его Родька. — Васька-то еле дышит. Оставь, завтра доскажешь.
— Связались мы с ним… Надо бы тебя, квелого, не брать с собой, — осердился Венька и добавил: — А мне вот все равно, какие хошь страшные рассказы слушать могу и нисколечко, ни на мизинчик, не боюсь.
— Ребята, я домой пойду. Мамка лупцовки даст, — попросил Васька.
— Я тебе пойду! — вскинулся Венька. — Вместе уговаривались. Ты убежишь, а мы останемся… Нашел рыжих!
Так в переругивании и в приглушенной воркотне шло время.
Наконец Родька решительно встал:
— Идем!
Венька с Васькой неохотно поднялись.
Ночь была безлунная, три или четыре крупные звезды проглядывали в разных концах неба между набежавшими облаками.
Шли гуськом: впереди Родька, за ним Венька, сзади, прижимаясь к Веньке, наступая ему на пятки, семенил, спотыкаясь, Васька Орехов.
Тропинка была усеяна тугими, как резина, кочками прошлогоднего подорожника. Родька до боли в глазах вглядывался в темноту. Вот в нескольких шагах, прямо на тропинке, замаячило что-то живое, волк не волк, выше волка, шире волка, страшнее волка, сидит и ждет… Сердце начинает тяжело бить в грудь, звон стоит в ушах от бросившейся в голову крови. Шаг, еще шаг, еще… И тропинка огибает невысокий кустик, он не выше волка, он не шире волка, до чего же жалок вблизи, так себе, пара искривленных веточек. К черту все страхи!
К черту?.. А что там в стороне? На этот раз ошибки быть не может: кто-то в темноте шевелится на самом деле. Слышно даже, как переступает с ноги на ногу, не ждет, само идет навстречу — большой, неясный сгусток ночи. Оно может и растаять в черном воздухе, может и навалиться на тебя удушливым облаком… Раздалось фырканье… Ух! Это лошадь! Уже выпустили пастись, рановато вроде, трава чуть-чуть выползла.
Знакомую до последней кочки землю покрыла только лишь темнота, и знакомая земля стала непонятной, пугающей.
Родька шагал, вглядывался вперед, и в эти минуты он готов был верить во все: в нечистую силу, которая в любую минуту может вывернуться из-под ног, в мертвецов, что поднимаются из могил, в бога — великого и страшного, глядящего сейчас откуда-то с черного неба. И все-таки он шел вперед, и все-таки он должен был проверить, сам узнать, услышать своими ушами, иначе не будет его душе покоя.
— Ой! — раздалось сзади слабое восклицание.
Родька и Венька, толкнув друг друга, повернулись к Ваське Орехову.
— Ты что?
— Ногу подвернул. Дальше не пойду.
— Так мы тебе и поверили. Только что целехонька нога была.
— Скажи прямо: душа в пятках.
Васька перестал стонать.
— А неужель не страшно?
— Вставай! — схватил его за воротник Венька. — Или силой потащим.
— Тащите не тащите, не пойду. Я вам правду говорю: нога подвернулась.
— Мы тебе живо ее вылечим. — Венька сильнее тряхнул Ваську. — Ну, долго возиться?..
— Пусти-и! Не пойду, сказал же.
— Ладно, Венька, черт с ним, пусть здесь остается, — зашептал Родька. — Провозимся с ним, опоздаем. Времени и так нету.
— Мокрая курица ты, не товарищ. Треснуть бы по шее разок. Сиди тут, коли так.
Родька и Венька плечо в плечо двинулись дальше. Венька еще поругался немного и замолчал. Уж слишком был страшен и неприятен собственный голос в этой мертвой тишине.
Они приближались к церкви, но по-прежнему впереди ничего не было видно. И лишь с напряжением, до боли вглядываясь в темноту, можно было не столько увидеть, сколько ощутить впереди себя кирпичную громаду, закрывающую полнеба.
А вокруг церкви — кладбище. Оно старое, заброшенное, давно уже не хоронят на нем покойников. Но кому не известно: чем заброшенней кладбище, тем скорей можно ждать на нем всякой нечисти.
Венька остановился.
— Родька. Слышь, Родька…
— Чего еще? — приглушенным шепотом спросил тот.
— Васька-то небось домой побежал.
— Ну и что?
— Он дома будет сидеть, а мы, как проклятые, в эту церковь полезем.
— Тоже струсил?
— Не струсил, а дурее Васьки быть не хочу. Больно мне нужна эта церковь. Пропади она пропадом, плевать на нее!
— А зачем тогда пошел?
— Да ни за чем. Ежели б вместе, а то вон Васька-то…
Родька вдруг почувствовал, какое это несчастье — остаться вдруг одному в этой тишине, среди влажной ночи. Одному перешагнуть за церковную ограду, одному пройти мимо старых могил, одному влезть в церковь, одному там ждать… Это невозможно! Лучше отказаться, повернуть домой. Повернуть?.. А завтра опять гляди на церковь, мучайся, думай, как бы попасть в нее. Все равно придется рано или поздно опять идти. Нельзя отпускать Веньку! Нельзя оставаться одному!
— Веня, мы уже ведь пришли… А Васька что?.. Васька же — дурак, трус, девчонка… Мы еще посмеемся вместе…
— Не пойду, и шабаш… Хочешь, повернем вместе, не хочешь…
— Венька! Только поверни, я тебе опять юшку пущу.
— Тоже мне — юшку! Мало, видать, попало сегодня от Парасковьи Петровны.
— Пусть попадает. Сейчас набью, завтра набью, каждый день бить буду.
И быть бы драке в полночь у старой церкви, если б в темноте за спинами ребят не послышались торопливые, спотыкающиеся шаги и прерывистое дыхание. Оба забыли про драку, обернулись, прижались друг к другу.
— Родька… Венька… Это вы? — появился Васька, едва переводивший дыхание от быстрой ходьбы. — Одному-то еще страшнее, — заговорил он прерывистым шепотом. — Просто жуть одному-то… Уж лучше с вами…
Дрожащий, просящий Васькин голос виновато оборвался. С минуту все стояли неподвижно. Без шелеста листьев, без коростельего крика облила их плотная темнота.
Родька первым опомнился.
— Пошли, — сказал он не шепотом, а вполголоса и повернулся к церкви.
Васька, споткнувшись, поспешно бросился за ним. Последним двинулся Венька.