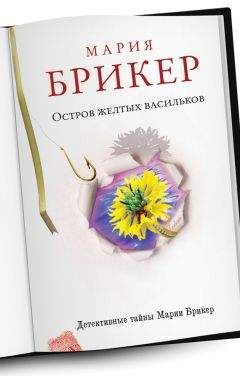Груздев произнес эти слова, задумался, медленно повернулся и побрел к доске. Его проводили взглядами, никто не хлопнул в ладоши, как будто боялись потревожить переполненные сердца. Алеша тихонько начал продвигаться к своему месту, и ему захотелось где-нибудь в одиночестве подумать над тем, о чем говорил Груздев.
В маленькой комнатке заводского комитета он застал арестованных и Степана с Котляровым. Вероятно, Степан о чем-то разглагольствовал, потому что Богомол сидел в углу на табуретке и негодующим взглядом следил за ним, да и Котляров как-то смущенно рассматривал приклад винтовки между ногами.
Увидев Алешу, Богомол поднялся, подошел к столу, сказал резко, постукивая сложенными пальцами по доске стола:
— Я хочу знать: кто меня арестовал. Вы, товарищ офицер?
Он нажал на слово «офицер» и пристальным, немигающим взглядом вонзился в Алешу. Степан мотнул на Богомола головой:
— Вот я ему толкую, а он бессознательный какой-то… Народ тебя арестовал.
— Я прошу ответить, — приставал Богомол, не обращая внимания на Степана.
— Я не офицер, но арестовал вас я: на основании общего народного требования.
— Какого народного, я хотел бы знать? Где постановление? Где постановление? Наконец, чье постановление? Толпы? Самосуд? Требую немедленного освобождения. Сейчас! Сию минуту! Наконец, где наша машина?
Степан хмыкнул и отвернулся. Алеша ответил:
— Машина? Я, право, не знаю?
— Вы не знаете? Вы, мальчишка, держите под стражей председателя Совета рабочих депутатов?
Степан возмутился:
— Да я ж тебе объяснял: не за то, что ты председатель, а зачем ты в эсеры записался? Вот теперь и расхлебывай! Я тебя не тянул в эсеры? Не тянул. А ты ещше и про войну начал молоть, ребенок и тот скажет…
Степан все это выговаривал нежно, убедительно, но Богомол его не слушал. Он подошел к стене, остановился перед каким-то плакатом, задумался гордо.
Вошли Муха и Семен Максимович.
Муха полез к ящику. Семен Максимович провел по усам пальцем, взял за рукав Степана, прогнал его со стула, положил руку на стол, свесил пальцы, кашлянул и замер в неподвижном строгом ожидании. Муха порылся в ящике стола, поднял глаза:
— Ваша машина здесь, товарищ Богомол. Можете уезжать. И вы, товарищ Остробородько.
— Машина меня не интересует. Вы скажите, какое вы имели право меня арестовывать?
Муха еще раз заглянул в ящик, пошарил в нем рукой, улыбнулся:
— Да какое там право? Арестовали — да и все!
— Нет, скажите, какое право? Вы думаете, это так пройдет?
Муха еще раз улыбнулся:
— Я думаю, что, — он уверенно кивнул головой, — пройдет!
— Значит, вы надеетесь на безнаказанность?
— Надеюсь, — сказал Муха и закрыл ящик.
— Пользуетесь всеобщим безвластием?
— Пользуемся…
Богомол засверкал взглядом, у Остробородько за очками заиграла тонкая, просвященная ирония. Муха поднял ясные глаза на Богомола. Тот начал застегивать свой макинтош.
— Не доросли вы до демократии, товарищи. Вам нужна палка, Корнилов нужен!
Слово «Корнилов» Богомол провизжал громко, подбросив маленькую, белую руку к потолку.
Муха поднялся за столом, оперся руками:
— А вы себе заведите Корнилова.
— Кого?
— Да Корнилова. Сильная власть, палка, никто вас не арестует, вы будете проповедовать войну до победного конца, никто вам слова не скажет! Хорошо!
Богомол бросил на Муху гневный взгляд и толкнул дверь. Дверь открылась, но Богомол еще не все сказал:
— Из ваших этих… ленинских химер… все равно ничего не выйдет! Химеры!
Остробородько поднялся, тонко улыбнулся и протянул вперед поучительный палец:
— Химеры и преступление! И преступление!
— Напрасно их выпускаешь, товарищ Муха, — начал Степан, — в каталажку нужно таких или прикладом по голове! — Степан грозно двинулся вперед, но Богомол уже вышел, за ним направился и доктор.
Степан тоже шагнул за ними, но Алеша строго сказал:
— Степан!
— Да я, Алеша… понимаешь… два слова ему скажу…
— Обойдешься.
Степан страдал у двери, — мучили его, видимо, невысказанные слова. Муха двумя ладонями начал растирать лицо, растирал, растирал, даже кряхтел при этом:
— Так. Поехали, значит. Хай большой подымут. Не нужно было, Алеша, ни к чему. И на какой конец ты их арестовал? Где их держать? У нас государственной власти еще нет. Семен Максимович острым взглядом пробежал по лицам:
— Ничего, Григорий! Хорошо вышло. Очень хорошо. Народ — никакого тебе погрома, никакого тебе беспорядка, вежливо, как полагается, посиди часика два. Вроде как в карцере. Хорошее наказание и справедливое.
Рабочий клуб, еще только организуемый в бывшей «столовой» сделался местом, куда Алешу тянуло посидеть в свободный вечер. В клубе все еще находилось в стадии становления: по всем комнатам шла работа, на полу шуршали стружки, и хозяином расхаживал по ним и распоряжался веселый Марусиченко, возглавляющий троку столяров, выделенную заводским комитетом. Марусиченко с первого слова сдружился с Ниной и на правах дружбы вмешивался во все клубные дела, всюду совал нос и подавал советы. Он придумал особую систему быстро разбираемых кулис и в одну бессонную ночь смастерил хитрую и красивую модельку. А когда рамки для кулис были готовы, он сам натянул на них холст — и заявил даже, что и декорации будет писать собственноручно. В доказательство своих прав на эту работу он представил несколько подержанных открыток, на которых были изображены зеленые глади прудов и кровавые закаты. Но нашелся художник, перед которым должна была спасовать его буйная энергия. Он не обиделся и с таким же энергичным оживлением занялся грунтовкой и небесным фоном. Главным же художником выступал Николай Котляров, который еще в высшем начальном училище прославился копиями с Шишкина и Киселева.
В течение целого дня в клубе шла работа: делали сцену, переделывали кухню под библиотеку и читальню, строили диваны для зрительного зала и прилаживали занавес. Нина — в синем бязевом халатике — успевала за день побывать везде: слетать в город, распорядиться, дать многочисленные консультации, поговорить с Марусиченко, полюбоваться работой Николая, и у нее еще оставалось время для работы самой любимой — приводить в порядок сотни книг, которые она каким-то чудом находила в городе. Книги нужно было записать, пронумеровать, расставить на полках, но прежде всего их нужно было доставить из города. Транспортное средство было единственное: костромские мальчишки. Каждое воскресенье веселой гурьбой вместе с Ниной они отправлялись в город. Из города они возвращались всегда почему-то гуськом, и каждый из них на плечах и на груди нес одну или две связки книг. Таня Котлярова называла это шествие караваном в пустыне. Мальчишки ходили в караване не совсем бескорыстно: в их полное и бесплатное распоряжение обещана была отдельная скамья во время спектаклей и киносеансов.
Работа с книгами оказалась сложной еще и потому, что их нужно было выдавать читателям, не ожидая конца работы. Как только «караван в пустыне» первый раз проследовал по Костроме, читатели явились немедленно, а Нина не считала возможным отложить хотя бы на один день удовлетворение этой важной потребности. Даже у Василисы Петровны на ее кровати под подушкой лежала переплетенная «Нива» за 1899 год. Василиса Петровна по вечерам усаживалась в убранной кухне и осторожно перелистывала страницы книги, внимательно рассматривала иллюстрации к «Демону», «Пожар на море» и картинки, изображающие стариков в шляпах и голландских женщин в высоких чепцах. Капитан деликатно, как будто к слову, читал ей надписи под картинками. Однажды между делом он сказал:
— Василиса Петровна! Пустое дело! Давайте покажу вам, как это… как читать.
Василиса Петровна сделала вид, будто она очень заинтересована очередной иллюстрацией, отвернулась, ничего не ответила, но через несколько дней она уже с большим интересом рассматривала журнальный заголовок и шептала:
— Ни…в…а…ва Нива.
Это проходило в секрете и от отца, и от Алеши, даже и Нина узнала о нем не скоро: когда обстоятельства потребовали отъезда капитана из Костромы.
По вечерам в клубе было особенно хорошо, в нем оставались только люди, преданные идее, и никому не позволялось болтаться без работы. Нина к этому времени крепко привязалась к Тане, в одиночку теперь трудно было встретить и ту и другую. Они предавались новому делу почти без отдыха, тем более что количество книг все увеличивалось и увеличивалось: «караван в пустыне» работал регулярно. У Николая Котлярова тоже задача была длинная, и он разрешал ее с привычной для него миной молчаливого одиночества. Павла Варавву допустили к составлению каталога, и это устраивало его во многих отношениях: во-первых, Павел был выдающийся читатель на Костроме и к книгам относился с нежностью, а во-вторых, рядом была Таня. Пробовали к книжному делу допустить и Алешу, но из такой затеи ничего не вышло. Алеша добросовестно работал до тех пор, пока в руки не попадалась интересная книга, — в этот момент его добросовестность рушилась. Кругом идет работа, а Алеша уже замер над книжкой, развернутой на руке. Еще через три минуты он уже куда-то побрел, не отрываясь глазами от страницы: оказывается, что целью его движения является диван, только вчера вышедший из рук Марусиченко. На диване Алеша располагается настолько уютно, что скоро и записная книжка, и карандаш появляются в его руках. Такое поведение Нина называла распущенностью. Алеша получил новое назначение: для него отвели большой участок стола, и скоро он с головой окунулся в полезное занятие. На кусках ватмана Алеша самым идеальным и самым художественным шрифтом разделывал надпили, необходимые в каждом порядочном клубе: «вход», «выход», «просят не курить», «касса»… А когда принесли только что сделанную доску для вывески, ему пришлось для художника Николая Котлярова сделать рисунок букв: