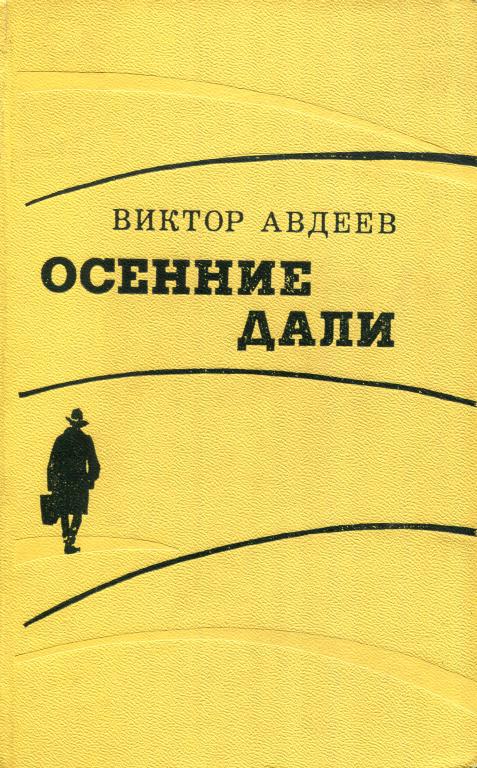пальто, загоревшая и очень красивая, разговаривала громко, с излишним оживлением, и ее полные надменные губы поминутно улыбались. Возле Иры вертелся Алексей Перелыгин, также одетый в плащ, с кожаным заграничным саквояжем в руке: они жили в одном городе и ехать им было вместе. Невдалеке от лошадей стоял профессор Казанцев и разговаривал с Зворыкиным. Пастух был в картузе, при тяжелых карманных часах: он тоже уезжал, не дожив шести дней до срока путевки.
— Будя, отгулялся, — говорил он Казанцеву. — Дело ленивых не ждет: работаю не на бар, на свой анбар. Да и когда, как не теперь? Чуть усы пробились — с девками гулять зачинаешь, все норовишь как бы гармошку да на вечерку. Оженишься — ошалеешь, будто февральский кобель за бабой ходишь. Когда же, спрашиваю, и поработать, как не на старости? Тут уж ни ты никому, ни тебе никто. А безделье хуже чего нет: одни думы засосут, как пиявки. Веришь? — он понизил голос. — Вчерась поллитру взял в магазине. А? До чего так дойтить можно?
Он закашлялся, а Казанцев, улучив минуту, подошел к Ире и с поклоном подал ей букет осенних цветов.
— Счастливого пути. Будьте здоровы и хорошо учитесь, — сказал он доброжелательно.
Она взяла цветы.
Лошади тронули, загромыхал барок, и Казанцев не слышал, что сказала в ответ Ира. Но букет она держала так, будто готовилась выбросить его как только выедет за ворота. Алексей ревниво глянул на профессора, улыбаясь, что-то сказал девушке, и она согласно кивнула головой.
Рядом в кустах послышалось четкое: «Ци-ци-фи! Ци-ци-фи!» — и на ветке закачалась белощекая птичка в желтой рубашке и длинном черном галстуке — большая синица; казалось, и она решила проститься с отъезжающими. Сентябрь — месяц синиц, их то и дело слышно. Оставшиеся еще помахали с крыльца руками и вернулись в гостиную. Там зажгли камин, все собрались греться вокруг красиво пылающих еловых поленьев. Незаметно подошел ужин, и, встав из-за стола, Казанцев накинул пальто, решив прогуляться: вечера уже стояли холодные.
Открыв калитку парка, он по темной аллее пошел к низко черневшему вдали орешнику. Справа на колхозных токах горел огонь, слышались пыхтение, стук молотилки, голоса, и, когда красное пламя вскидывалось кверху, из тьмы выступали огромная скирда, угол сарая и черные фигуры мужиков.
«Осень, самая рабочая пора», — подумал Казанцев. Вспомнились пушкинские строки: «Унылая пора! очей очарованье!»
В поле было тихо и сумрачно: днем здесь по опустевшему жнивью неторопливо бродили грачи, скотина, а на парах можно было увидеть маленькие анютины глазки, колючие кустики чертополоха с вылезающей «ватой». Луна стояла невысоко над лесом, и под нею блестели две красных звезды, самых крупных в созвездии Овна: они отражались в придорожных лужах.
Перед каменным пограничным столбом с ветхим полосатым шлагбаумом Казанцев остановился. Сколько раз, гуляя с Ирой, они доходили сюда и неизменно поворачивали обратно. А теперь вот он тоже достиг своего пограничного шлагбаума — порога старости…
Далеко из-под обрыва с Волги донесло гудок парохода. Казанцев глянул на часы и, сняв шляпу, помахал ею в воздухе: в это время всегда из Астрахани на Саратов шел пассажирский, и теперь от местной пристани с ним уезжала Ира. «Не сердитесь, милая девушка, на старика профессора, единственная вина которого состоит в том, что он не хотел вашего несчастья. Ведь у вас больше оскорблено детское самолюбие, чем затронуто сердце. Сколько еще вам предстоит прекрасных встреч, сколько радости! Будут, конечно, и новые огорчения, но только помните, что жизнь божественно хороша. Даже вот в увядании. Действительно, разве осень менее красива, чем весна или лето? Те лишь дают почки, завязи, а она — плоды».
В лесу было сыро, тихо, свежо. Неподвижно повисла листва, храня на исподе капельки влаги, внятно пахло гниющими корнями. Вот что-то еле слышно треснуло: мышь-полевка охотится за ореховой падалицей? Казанцев медленно тронулся к дому отдыха, обходя лужи. Луна теперь светила Казанцеву в спину, от него на дорогу падала длинная узкая тень, похожая на черный палец, который словно указывал ему путь — прямо на зеленый огонек лампы в окне его опустевшего флигеля.
I
Гость был дорогой, редкий, и доктор Ржанов обрадовался, что к ним в городок он приехал в хорошую погоду. С Акульшиным они когда-то учились в одном классе, мечтали никогда не расставаться, но в Отечественную войну эвакуировались с родителями в разные города и потеряли друг друга на долгие годы. Эта встреча напомнила обоим о юности — времени, которое мы всегда вспоминаем с умилением, словно его наполняли одни только радости.
— Где твой знаменитый чуб? — смеясь, говорил Ржанов, не выпуская длинной, вялой руки друга. — Где ученые труды по астрономии, которые собирался создать? Новая открытая звезда? Ты агроном?
— По профессии. А работаю в областном статуправлении, гектары подсчитываю. Чиновник. Но и ты не летчик-испытатель?
— Увы. Районный Пирогов. А помнишь, сколько раз я заступался за тебя перед мальчишками «ненашенской улицы» и получал фонари под глаза, гули на лоб?
— И всегда я «лечил» твои раны мороженым, выклянчив у матери деньжонок на порцию.
— Ели-то мы это мороженое пополам.
Оба весело, придирчиво рассматривали друг друга, похлопывали по плечу.
Припекало солнце, гряды сухих, лиловато-сахарных облаков усиливали духоту, и после завтрака решили поехать на Сейм искупаться. «Нынче воскресенье, — сказал Ржанов. — У меня отгул». Как главврач, квартиру он занимал при больнице; тут же во дворе стояла новенькая, этой весной полученная автомашина «рафик», кофейного цвета, с красной надписью: «Скорая помощь». Купаться с друзьями поехали и жена Ржанова Серафима Филатовна, двое их детей и молодой хирург Щекотин, которого все за глаза еще называли «наш Владлен»: он только в прошлом году кончил медицинский институт.
Городок был тихий, старинный, с одноэтажными усадистыми домами, каменными арками над воротами, главной улицей, мощенной неровным булыжником, проросшим травкой. Оставляя за собой шарф пыли, «Скорая помощь» вынеслась на базарную площадь. Здесь за осиновым частоколом на липких топчанах торговали свежей рыбой, ночью выловленной в Сейме, вишней, смородиной, яблоками из своих садов; Ржанов, сидевший рядом с шофером, приказал:
— Останови, Семен.
Он купил в табачном ларьке пачку сигарет и, раскрывая ее, подошел к обрюзгшему мужчине в заношенном офицерском кителе без погон и с тремя орденами, привалившемуся спиной к базарной верее. Ржанов постоял с ним минут пять, что-то убеждающе говоря. Оба закурили. Мужчина в кителе покачивался, и нельзя было понять, соглашается он с доктором или нет. Ржанов вернулся к машине.
— Это майор? — спросил Акульшин, которому Серафима Филатовна рассказала, кто был базарный встречный.
— Отставник, —