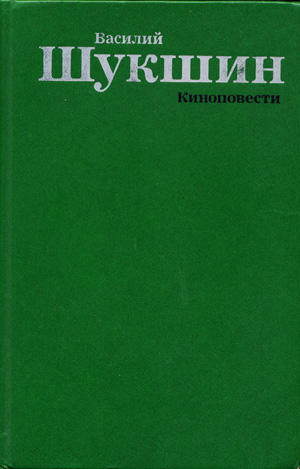class="p1">– Четыре сотни. К царю они послали. Ивана Аверкиева.
– Вот тут ему и конец, старому. Я его миловал сдуру… А он додумался: бояр на Дон звать. Чего тут без меня делали?
– В Астрахань послали, к Серку писали, к нагаям…
– Казаки как?
– На раскорячку. Корней круги созывает, плачет, что провинились перед царем…
– Через три дня пойдем в Черкасск. Я ему поплачу там…
– Братцы мои, люди добрые, – заговорил Матвей, молитвенно сложив на груди руки, – опять вить вы не то думаете. Опять вас Дон затянул. Вить война-то идет! Вить горит Волга-то! Вить там враг-то наш – на Волге! А вы опять про Корнея свово: послал он к царю, не послал он к царю… Зачем в Черкасск ехать?
– Запел! – со злостью сказал Ларька. – Чего ты суесся в чужие дела?
– Какие же они мне чужие?! Мужики-то на плотах – рази они мне чужие?
Тяжелое это воспоминание – мужики на плотах. Не по себе стало казакам.
– Помолчи, Матвей! – с досадой сказал Степан. – Не забыл я тех мужиков. Только думать надо, как лучше дело сделать. Чего мы явимся сейчас туда в три сотни? Ни себе, ни людям…
– Пошто так?
– Дон поднять надо.
– Опять за свой Дон!.. Да там триста тыщ поднялось!..
– Знаю я их, эти триста тыщ! Сегодня триста, завтра – ни одного.
– Выдь с куреня! – приказал Ларька, свирепо глядя на Матвея.
– Выдь сам! – неожиданно повысил голос Матвей. – Атаман нашелся. Степан… да рази ж ты не понимаешь, куда тебе сейчас надо? Вить что выходит-то: ты – без войска, а войско – без тебя. Да заявись ты туда – что будет-то! Все Долгорукие да Барятинские навострят лыжи. Одумайся, Степан…
– Мне нечего одумываться! – совсем зло отрезал Степан. – Чего ты меня, как дитя малое, уговариваешь? Нет войска без казаков! Иди сам воюй с мужиками с одними.
– Эхх! – только сказал Матвей.
– Все конные? – вернулся Степан к прерванному разговору.
– Почесть все.
– Три дня на уклад. Пойдем в гости к Корнею.
Ночью в землянку к Матвею пришел Ларька.
– Спишь?
– Нет, – откликнулся Матвей и сел на лежанке. – Какой тут сон…
– Собирайся, пойдем: батька зовет.
– Чего это?.. Ночью-то?
– Не знаю.
Матвей внимательно посмотрел на есаула… И страшная догадка поразила его. Но еще не верилось.
– Ты что, Лазарь?..
– Что?
– Зачем я ему понадобился ночью?
– Не знаю. – Ларька упорно не смотрел на Матвея.
– Не надо, Лазарь… Лишний грех берешь на душу.
– Одевайся! – крикнул Лазарь.
Матвей встал с лежанки, прошел в угол, где теплилась свечка, склонился к сундучку, который повсюду возил с собой. Достал из него свежую полотняную рубаху, надел… Опять склонился к сундучку. Там – кое-какое барахлишко: пара свежего белья, иконка, фуганок, стамеска, молоток – он был плотник. Это все, что он оставлял на земле. Он перебирал руками свое имущество… Не мог подняться с колен.
– Ну!
Матвей словно не слышал окрика, все перебирал инструменты. Он плакал.
Утром Ларька доложил Степану:
– Этой ночью… Матвей утек.
– Как?
– Утек. Кинулись сейчас – нигде нету. К мужикам, видно, своим – на Волгу.
Степан пристально посмотрел на верного есаула.
– Зря, – сказал он. – Не надо было. Самовольничаешь!
Ларька промолчал.
Через три дня три сотни казаков во главе с Разиным скакали правым берегом Дона, вниз, к Черкасску. «В гости» к Корнею.
Опять – движение, кони, казаки, оружие… Резковатый, пахучий дух ранней весны. И не кружится голова от слабости. И крепка рука. И близок враг – свой, «родной», знакомый.
Может, это начало?
Черкасск закрылся.
Затанцевали на конях под стенами.
– В три господа-бога!.. – ругался Степан. Но сделать уже ничего нельзя было – слишком мало силы, чтобы пробовать брать хорошо укрепленный городок приступом.
Трижды посылал Степан говорить с казаками в городе.
– Скажи, Ларька: мы никакого худа не сделаем. Надо ж нам повидаться! Что они, с ума там посходили? Своих не пускают…
Ларька подъезжал близко к стене, переговаривался. И привозил ответ:
– Нет.
– Скажи, – накалялся Степан, – если они, в гробину их, будут супротивничать, мы весь городок на распыл пустим! Всех в Дон посажу! А Корнея на крюк за ребро повешу. Живого закопаю! Пусть они не слухают его, он первый изменник казакам, он продает их царю. Рази они совсем сдурели, что не понимают!
Ларька подъезжал опять к стене и опять долго толковал с казаками, которые были на стене. И привозил ответ:
– Нет. Ишшо сулятся стрельбу открыть. Одолел Корней.
– Скажи, – велел в последний раз Степан, – мы ишшо придем! Мы придем! Плохо им будет! Плохо будет! Кровью они плакать будут за уговоры Корнеевы. Скажи им, что они все там проданы с потрохами! И если хоть одна сука в штанах назовет себя казаком, то пусть у того глаза на лоб вылезут! Пусть там над ими малые дети смеются!
Ехали обратно. Не радовала близкая весна, не тревожил сердце родной, знакомый с детства милый простор.
Нет, это, кажется, конец.
Астрахань не слала гонцов. Серко молчал. Алешка Протокин затерялся где-то в степях Малого Нагая.
Степан бросился в верхние станицы поднимать казаков, заметался, как раненый зверь в клетке.
Станица за станицей, хутор за хутором…
По обыкновению Степан велел созывать казаков на майдан и держал короткую речь:
– Атаманы-молодцы! Вольный Дон, где отцы наши кровь проливали и в этой земле лежат покойные, его теперь наша старшина с Корнеем Яковлевым и Мишкой Самарениным продают царю и называют суды бояр. Так что лишают нас вольностей, какие нам при отцах и дедах наших были! И нам бы теперь не стерпеть такого позора и всем стать заодно! Чтоб нам с вами своей казачьей славы и храбрости не утратить и помочь бы нашим русским и другим братам, которых бьют на Волге. А кто пойдет на попятный, пусть скажет здесь прямо и пусть потом на себя пеняет!
Таких не было, которые бы заявляли прямо о своем нежелании поддержать разинцев и помочь «русским и другим братам» на Волге, но к утру многих казаков не оказывалось в станице. Степан зверел.
– Где другие?! – орал он тем десяти – пятнадцати, которые являлись поутру на майдан. – Где кони ваши?! Пошто неоружные?!
Угрюмое молчание было ответом.
В другом месте Степан откровенно соблазнял:
– Атаманы-молодцы! Охотники вольные!.. Кто хочет погулять с нами по чисту полю, красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить – пошли со мной! Хватит вам киснуть с бабами!..
Результат – тот же: десять – двенадцать молодых казаков, два-три деда, которые слышали про атамана «много