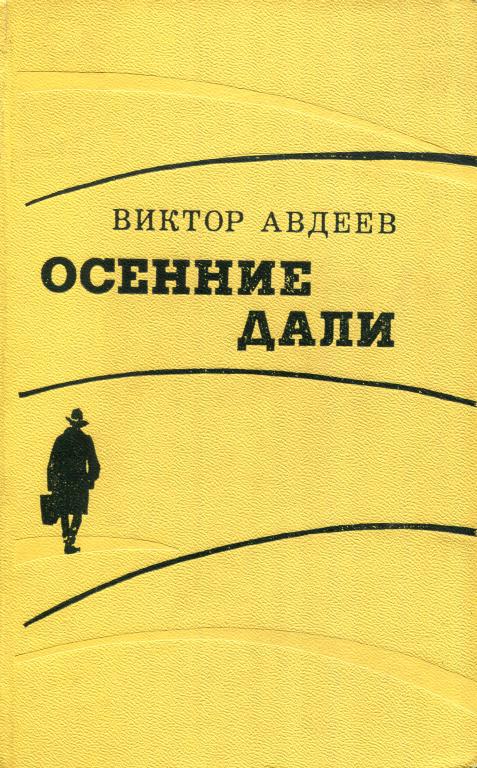семье, действительно, случаются такие моменты, когда постороннему человеку лучше не торчать перед носом.
Кажется, Серафима Филатовна была не очень ласкова с гостем, почти не замечала его. Не хотела ли этим насолить мужу? Скорее же всего ее интересовал только один Щекотин.
— Может, Алексей, чашку кофе выпьешь? — сказала она, когда за Акульшиным закрылась дверь.
— Какая чуткость… и забота.
— Сделать? Операция может затянуться.
Хотя Серафима Филатовна предлагала покормить его, тон у нее был резкий, рот вызывающе кривился. Очевидно, она прекрасно понимала, почему Алексей Иванович вспылил, грубит.
— Я ведь сказал: некогда. Иль без меня не найдешь за кем поухаживать?
О чем думали оба, что у каждого вертелось на языке — вслух не говорили. Но их глаза, позы, тон голосов давно все высказали. И эту женщину Алексей Иванович любил, был преисполнен нежности к ней, пока ему не открылось то, что другие уже давно видели! Ловко она притворялась! Серафима Филатовна стояла бледная, теребя купальную простыню, привезенную с реки.
— Успокойся, — вдруг сказала она тихо, брезгливо. — Ты ж к операции готовишься.
Чего он, в самом деле, распсиховался? Ведь скальпель будет дрожать в руке.
Ржанов пошел к выходу. Серафима Филатовна стояла у него на дороге, и, не отступи она шаг назад, к буфету, возможно, доктор оттолкнул бы ее. Оказывается, она лучше владела собой; ему вдруг стало стыдно. Во дворе он потер лоб, словно разглаживая морщины, уверенно и покровительственно кивнул поднявшемуся со скамейки Акульшину: «Не передумал? Ну, давай, давай».
«Хладнокровие, — приказал он себе. — Хладнокровие».
В приемном покое на Акульшина надели белый халат, белый колпак на голову, провели в операционную. Здесь возле длинного стола, застеленного белой клеенкой, уже стоял Ржанов. Сперва Акульшин даже не узнал его. Лицо доктора снизу закрывала марлевая маска, и глаза над ней блестели непривычно строгие, с решительным, сосредоточенным выражением. Обе руки Ржанов держал приподнятыми, словно сдавался в плен двум молоденьким медсестрам, одна из которых завязывала ему рукава халата, а вторая держала наготове белую резиновую перчатку. Акульшин хотел сказать Алексею Ивановичу что-нибудь шутливое, но почувствовал, что то, к чему приготовился хирург, отметает всякие шутки.
Отдельно на столике лежали скальпели, ножницы, зажимы, тампоны.
— Больного, — отрывисто, незнакомым Акульшину голосом приказал Ржанов и ткнул пальцем в стену, указывая другу, куда встать.
Одна из медсестер поспешно вышла, и вскоре ввезли больного. Акульшин не узнал бы его, если бы не был убежден, что это именно тот самый пятидесятичетырехлетний колхозник, который лежал на телеге во дворе больницы. Он тоже был во всем белом, виски запали, кожа туго обтянула скулы, и смотрел он тем же измученным взглядом широко открытых глаз. Оттого, что Акульшин никогда не присутствовал на операциях, он остро замечал каждое движение Ржанова, ассистирующего ему Щекотина, ставшего как бы выше, шепот медсестер, бульканье воды в стерилизаторе.
— Наркоз! — коротко приказал Ржанов. Он по-прежнему стоял с поднятыми руками, напоминая белого божка.
Доктор Щекотин наложил на лицо больного хлороформовую маску, схватил эфир, стал капать. Тело оперируемого плотно стягивали ремни. Медсестра обнажила его желтый впалый живот, густо смазала йодом, отчего показалось, будто живот вдруг загорел под солнцем.
— Скальпель! — сказал Алексей Иванович.
Медсестра молча подала ему блестящий инструмент. Ржанов наклонился над больным и твердо, уверенно провел скальпелем по животу. Акульшину казалось, будто он что-то чертит. Живое человеческое тело разъялось, и сразу по всему разрезу выступила кровь.
— Зажимы! — раздалось из уст ассистента.
Медсестры и без приказаний врачей прекрасно знали, что им делать. Щекотин брал у них металлические зажимы, накладывал больному, прекращая выход крови, собирал ее марлевыми тампонами.
«Боже, как все просто, — мелькнуло у Акульшина. — Да, человек — это самое обыкновенное животное».
Что-то сладкое и слабое подступило к горлу Акульшина, во рту стало тепло, и он понял, что там полно слюны. Голова сделалась удивительно легкой, как бы чужой, а пол под ногами вдруг зарябил, точно его залило водой. Какой противный тошнотворный запах! Кровь так пахнет? Или внутренности?
— Выведите, — услышал он и знакомый и незнакомый голос. Он не стал решать, кто кому и что сказал.
Возле него оказалась молоденькая медсестра, взяла под руку.
— Пойдемте.
Еще не совсем понимая, куда и зачем его ведут, Акульшин, осторожно переставляя ноги, шагал рядом с ободряюще улыбавшейся сестрой.
Свежий воздух во дворе, ясное, с розовыми облаками небо будто ударили по глазам, по ушам, ворвались в ноздри. Он глубоко с храпом вздохнул, чуть покачнулся.
— Ничего, — услышал он ласковый голос сестры. — Садитесь на лавочку. Сейчас все пройдет.
— Спасибо, — сказал Акульшин и тут же подумал: «Так это про меня сказали: «Выведите!» Кто? Наверно, Алексей».
Медсестра ушла обратно в операционную, а он остался сидеть возле куста сирени. Рот сам открылся, Акульшин несколько раз сплюнул и увидел, что слюна клейкая и идет откуда-то снизу, от живота. Взялся за лоб, точно желая поддержать голову, — лоб был мокрый; потными оказались побелевшие руки. Испарина выступила по всему телу, и слабость была такая, что Акульшин не чувствовал своего веса.
«Еще упаду».
Ему было стыдно, он не знал, как потом посмотрит в глаза Алексею Ивановичу, его жене. Вон какая работенка у хирургов! Здесь нужны железные нервы и железная рука.
«Нехорошо, — думал он, не зная, что шепчет это слово вслух. — Ой, нехорошо. М-м-м. Нехорошо».
Во двор вошел старик в белом халате, золотых старомодных очках, в летней соломенной шляпе и поднялся на крыльцо ржановской квартиры. «Знакомый?» — механически подумал Акульшин и стал смотреть на кошку, коварно жмурившую зеленые глаза на гулявших у колодезного сруба голубей.
Вновь открылась дверь ржановской квартиры, старик сошел со ступенек, неторопливо пересек газон и скрылся в хирургическом отделении.
Сколько еще протекло времени? Час? Два?
Открылись ворота, засигналила «Скорая помощь» и, проехав через весь двор, остановилась перед дальним флигелем. Санитар помог выйти из машины обрюзгшему, заросшему грязной щетиной мужчине с красным лицом, в помятом офицерском кителе с тремя орденами.
«Майор Конкин», — безучастно вспомнил Акульшин.
Привезенный был совершенно пьян и едва не упал в траву у крыльца. Когда санитар отвернулся и стал о чем-то разговаривать с шофером Семеном, Конкин двинулся обратно к воротам. Качало его так, будто отставной майор боролся с восьмибалльным ветром.
Лишь при выходе на улицу его схватил побежавший вдогонку санитар. Конкин не сопротивлялся, завернул назад: видимо, ему было все равно, куда идти.
«Вернуться, что ли, в операционную? — нерешительно подумал Акульшин. — Сказать, что я уже оправился».
Он не двигался с места, сидеть было так приятно.
И увидел, что недалеко от скамейки стоит доктор Щекотин в болонье поверх халата,