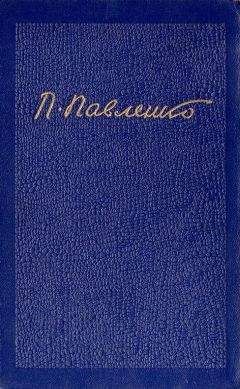Педагоги, окруженные свитой переводчиков, несущих «оформление» лекций — плакаты, рисунки и таблицы, — спешат на кафедры. Партии лесорубов уходят за город. Кузнецы разводят горны. Огородники запевают песни. Повара в белых колпаках суетятся у центрального пищевого бюро.
В течение восьми часов, следующих за пробуждением, город тих, опустошен. Повара с походными кухнями уезжают за город, музыканты уезжают за город, пропагандисты и рассказчики уезжают за город. Художник театра спокойно малюет декорации, раскинув их на всю площадь перед еще не законченным театральным зданием. Фотограф спит. В кино — уборка. Ларьки на перекрестках улиц закрыты.
Но вот в три часа дня над Сен-Катаямой взвивается ракета, и тотчас преображаются улицы. Фотограф уже в ателье. Ларьки открылись. Староста кино выкрикивает на четырех языках сегодняшний фильм. Беснуется радио. Со всех сторон врываются в город люди.
Быта, тяжелого, домашнего быта нет, и человек, если он на ногах, остается на улице до позднего вечера. В три часа тридцать: на десять минут все замирает — дневные известия с фронта. Люди останавливаются посреди улиц. В кино прекращается фильм, фотограф задерживает клиента перед аппаратом, погруженный в слушание новостей. С шести часов начинают работать кружки самообразования, а в восемь часов из Радиоцентра на четырех языках — доклады.
Пленный генерал Орисака, только что вышедший из госпиталя, читал о действиях его гвардейской дивизии у Санчагоу. В прениях по его докладу выступали бойцы дивизии. Приезжал бывший учитель Шуан Шен, председатель ревкома Кореи, с докладом «Как была провозглашена народная власть в Северной Корее» и отбирал для работы инвалидов войны. Товарищ Безухий, глава антияпонской лиги в Харбине, прочел шесть лекций о партизанах на реке Нонни и сел писать книгу «Организация паники». Книгу свою он создавал устно, беседуя с землячествами китайских партизан и опрашивая полковые объединения пленных японцев. Радио передавало книгу населению Сен-Катаямы как документ общей жизни и общего творчества. Когда он читал раздел «Паника на производствах, связанных с войной», потребовали слово двести человек. Дискуссия растянулась на декаду. Уезжая, Безухий забрал с собой четыреста человек для таежных партизанских заводов.
Осуда командовал жизнью необыкновенного этого города с увлечением композитора или живописца, которому нет дела ни до чего в мире, пока звучит в мозгу рождающаяся мелодия или перед глазами распростерты неповторимые светотени, уловить которые кистью есть дело всей его жизни.
Он строил дома, утверждал учебные планы, отбирал людей для Безухого, насаждал кустарные промыслы и всерьез подумывал о собственном сельском хозяйстве. Но жизнью города было все же не ремесло, а искусство.
Сен-Катаяма был громадной моделировочной мастерской, конструирующей из жуткого месива забитости и невежества, каким являлись японские солдаты и корейские мужики, крепких и смелых людей с хорошо развитою головою.
Все существующее в Сен-Катаяме существовало не ради себя самого, но лишь как школьное средство или пособие, и, вдохновенно подчиняясь характеру своего города, Осуда написал и прочел «Историю фушунского восстания горняков».
Пленный японский пулеметчик Хаяси, член городского совета, работавший над темой «Труд и безработица в префектуре Токио», пришел тогда к Осуде и предложил ему учредить кружки воспоминаний о жизни во всех девяноста трех японских, китайских и корейских землячествах.
— Ничто так не воспитывает человека, как собственный опыт, изложенный вслух.
Осуда был вполне с ним согласен и сел за разработку новых форм работы, как пришло известие — авиадесантом Шершавина захвачен японский шпион Мурусима и направляется в Сен-Катаяму на гласный суд. И не было времени думать о кружках или сенокосах. И Шлегелю ежедекадно посылалась все одна и та же депеша:
«Город состоянии организации подробности почтой».
На процесс Мурусимы вызвал Осуда Василия Лузу и Ван Сюн-тина. Оба лежали раненые в городе Ворошилове и прибыли с опозданием.
Бывший партизанский старшина Тай Пин, потерявший ноги под Гирином, а теперь помощник Осуды по административным делам, также должен был выступить в качестве свидетеля, но умолял отпустить его в отпуск.
— Я не могу говорить на суде, что я Мурусиму менял на испорченный пулемет.
— Почему не можешь? Менял же.
— Убьют, честное слово. Тут же, на суде, могут меня убить партизаны.
— Но ты же менял?
— Ну, когда дело было! Тогда дурной был.
Во всех землячествах города, у всех костров изучали процесс, потому что судили не старого Мурусиму, а старый порядок, его породивший, и много грязных и подлых имен прибавилось к имени Мурусимы. Каждый судил в нем шпионов и предателей своей жизни. Мурусима вел себя человеком как бы несчастным, всеми обманутым. Речь свою он старался изобразить исповедью раскаяния. Наивно, и как бы даже не понимая, что делает, разоблачал он своих старых товарищей по профессии, выдавал еще не раскрытых своих «парикмахеров» или «газетчиков» и подробно излагал методы японского шпионажа в Азии и Европе. В черном сюртуке, в золотых очках, сухонький, седой, он с азартом рылся в записных книжках и цитировал на память приказы, будто не его судили, а он сам кого-то судил.
Он был похож на профессора, читающего о невероятных открытиях. Десятки иностранных корреспондентов прибыли в Сен-Катаяму на процесс Мурусимы.
Мурусима кланялся и улыбался корреспондентам, приводя всех в смущение. Он был внимателен и к своим слушателям и, когда в зале становилось шумно, произносил:
— Тише, друзья мои, у нас еще очень много работы.
Всякая жизнь в городе замерла, и тогда впервые Ольга оказалась свободной. Ее студенты с утра до вечера стояли перед радиорупорами, обсуждая откровения Мурусимы и требуя немедленного уничтожения этой гноящейся жизни. Да, приговор над ним был уже произнесен, и никакая Мурусимы словоохотливость не могла изменить хода событий.
Ольга прошла по улицам, заглянула в пустующий «Музей войны» и от безделья мгновенно устала. Множество мелких и до крайности нудных дел всплыло в ничем не занятой сейчас памяти. Быт Ольги, с тех пор как она приехала в Сен-Катаяму, был прост, верней, его не было — она читала лекции часов по десять подряд, а потом возилась с сыном, и все это не выходя из дому. В палатке, именуемой «Кафедра океанографии и рыбоведения», она и жила.
Вдруг — имя Шлегеля. Она обернулась. Черняев, секретарь Осуды, когда-то бывший секретарем у покойного Михаила Семеновича, степенным шагом проходил мимо нее, кому-то говоря о приезде Шлегеля.
— Черняев! — крикнула она громко.
— Э! Имажинэ-ву[46]. Я только что вас вспоминал с Семеном, пароль доннер[47]. Он на суде вас разыскивает.
Черняев пополнел, выглядел солидно и держался как старший.
— Как мне пройти на суд?
— Детка, идите прямо в Дом бойца и скажите, что вы от Черняева, — он потряс ее руку с иронической улыбкой. — Все-таки надо было позвонить мне, как приехали. Мы тут сто лет могли бы прожить не встречаясь. Ну, жуска суар[48]. До вечера! Семен сюрприз вам готовит.
«Шлегель здесь и разыскивает меня, — думала она, идя к Дому бойца, волнуясь и воображая разные страхи. — Надо будет у него сразу все выяснить: и как с войной, и где Шершавин. Может, убит, оттого Шлегель и ищет меня».
Она уже злилась. Так пробивалась она к войне, так спешила, так много бросила в Москве, так дьявольски много сейчас работала, но город Сен-Катаяма все заслонил собой и всю ее — Ольгу — выжимал, обессиливал, брал до дна.
Когда она переходила площадь, застеленную сохнущими декорациями, ее остановили. Сторож-китаец поспешно раздвигал холсты и фанеру, очищая проезд для какой-то шумной оравы на грузовиках. Ольга услышала нанайский говор, увидела печально-веселые лица, кажущиеся страшно знакомыми.
— Кто это? — спросила она сторожа.
— Гости к нам, — важно ответил он, — удэге. Эвенки прибудут и чукчи, а на заре ждем камчадалов.
Быстро справившись с оформлением у входа, Ольга стала протискиваться в битком набитый зал.
Поднимаясь на цыпочки и тщетно стараясь обратить на себя внимание какого-нибудь местного распорядителя, в конце концов она пробралась к местам корреспондентов, и Мурусима, с большим интересом слушавший обвинительную речь Осуды, вежливо и внимательно с нею раскланялся. В зале засмеялись. Шлегель увидел Ольгу и поманил к себе.
— Что с вами? — спросил он ее, усаживая рядом с собой.
— Я так изменилась?
— Нет, вы изменились не очень, но разве так делают? Вернулись на родину, и никому ни слова: ни матери, ни мужу, ни друзьям. А мы тут вспоминаем ее, — голос Шлегеля звучал ласково, как когда-то, и весь он казался ласковым до слез.