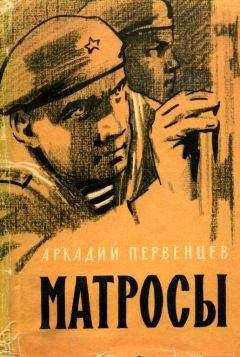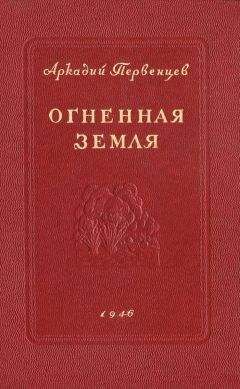Отвратительная ссора с Ириной после первого вызова его к следователю закончилась чем-то вроде сговора между ними. Потом дознания прекратились — его отправили в Москву. Черкашин понимал: интерес к Григорию Олеговичу не случаен, вскрывалось что-то более серьезное, нежели «проживание по чужим документам в запретной зоне».
— Скажи мне, только мне: кто он, для чего ты вытащила его сюда? — Черкашин в этот момент способен был на все, вплоть до убийства.
Ирина, не сопротивляясь, обвисала в его руках, молчала. А когда его гнев проходил, шептала ему, расслабленному, бледному и безвольному:
— Поверь, Павел, кроме старческой, платонической любви ко мне, ты ни в чем не должен подозревать его. — Она не называла его именем своего отца. — Да, да, это тот самый К. О нем я писала тебе в записке… Не кричи, Павел, успокойся, побереги себя. Конечно, обман, преступление, называй как хочешь. Иначе его не арестовали бы… Мы поступили опрометчиво. Но кто действует рассудком, когда переплетаются любовь и жалость? Люди из-за любви убивают, вешаются, травятся… Он потребовал от меня одного: согласиться на эту невинную уловку… Хотел быть ближе, полезней мне, ведь он совсем одинокий… Он вел себя как отец. То, прошлое, отошло так далеко, Павел. Ты шагнул ко мне, и все осталось позади. Ты сильный, умный, в тебе много граней… Поверь, люди поймут в конце концов. Если нужно, я все приму на себя. Докажу, что я завлекла, околдовала тебя, что я ловкая, хитрая бестия…
Она плакала, и в его сердце тоже возникали два чувства, ведущих к безумству, — любовь и жалость.
Назначенный на место Черкашина бывший командир подразделения подводных лодок, темпераментный служака, просоленный до третьей шкуры, неожиданно оказался въедливым до тошноты.
— Э, друг мой, ты не сваливай мне гамузом свои папки. Я должен разобраться, что к чему, — заявил он и вооружился очками, которых раньше никто у него не видел. — Я строевой командир, плавающий состав, извини меня, бумаги не моя стихия, а посему хочу взять их не только на глазок, а и на зубок. Бумажка в военной канцелярии всегда попахивает кровью.
Кто натолкнул его на подобные сентенции, легко было догадаться. При каждой заминке он бежал советоваться с самым высшим начальством, а Черкашина оставлял одного возле сейфа, демонстративно запертого на все ключи.
— Э, друг, мне-то невдомек, а вот этот рапортишко, оказывается, был направлен против прогресса! Атомно-ракетный век возникает на обломках устаревших понятий. — «Черт побери, когда он обрел несвойственную его натуре страсть к афоризмам?» — Эра тряхнула за шиворот, Павел. Пуговицы поотлетали от кителей. Что же ты так спесиво относился к нашему брату, подводным матросам?
— Ладно уж, — бурчал Черкашин, пытаясь повернуть явное над ним издевательство на шутку, — подводники! Мотаетесь в черноморском бассейне, как в аквариуме, а еще спесивитесь. Красные рыбки в стеклянной банке…
— Тугодум, консерватор… — в тон ему подшучивал преемник, а сам нудно копался в бумагах, словно перед ним были фальшивые ассигнации, чуть ли не на зуб их брал. — С эрой надо быть на «вы», Паша, она солдатских юморесок не понимает… за шиворот берет, тугими узлами вяжет, удавкой… А вот что это у тебя за актик по проверке остойчивости флагманского корабля? Почему вычеркнуты эти дефекты?
— Я, что ли, их вычеркивал?.. Тут смелый карандаш работал…
Черкашин еле удерживался, чтобы не взорваться. Мелочная подозрительность бесила его, а что сделаешь? Вымазался в грязи по самую шею, теперь кто угодно может плеснуть помоями.
Наконец тягостные формальности закончились. Последний доклад адмиралу, разрешительный сухой кивок, и Черкашин на негнущихся ногах спустился по хоженой-перехоженной лестнице штаба. Еще шаг, еще… Последний, навсегда, навеки. Ему козырнул у входа дежурный, вытянулся часовой старшина-исполин — где-то видел эту физиономию. И все…
Холодный, сырой ветер швырял на мокрый асфальт листья каштанов, доносил запахи бухты.
Черкашин остановился в нерешительности, вздохнул, потер переносицу. Болела голова. Компрессорно стучала кровь, да, именно… компрессорно. Улица закипала людьми, равнодушные людские потоки катились, как волны. Плескалась, гудела, шумела толпа. Вспыхнули фонари, и крутая площадь у штаба заискрилась, заиграли огни.
Из штаба вышел Говорков, чем-то довольный, возбужденный. Как спелое яблоко, сверкало его румяное моложавое лицо, под усами светлели зубы, вероятно еще не знавшие бормашины.
Понятно, Говоркову также хотелось увильнуть от встречи, но никакие «не могу» не возымели на Черкашина действия. Он сурово сосредоточился на одной цели — отвести с кем-нибудь душу.
В тесном и милом по воспоминаниям молодости ресторане, стародавнем прибежище морских волков, знакомый официант, облысевший с годами на глазах завсегдатаев, устроил им столик невдалеке от эстрады. Там уже собирались музыканты — передвигали пюпитры, разминали пальцами мешки под глазами.
Через полчаса Черкашин достаточно охмелел, чтобы быть откровенным.
— Ты должен по-товарищески понять меня, Говорков. Постарайся выбросить глупейшее предубеждение. Неужели и ты думаешь, что мною руководят только низкие чувства?
Говорков поглядывал на фосфоресцирующие стрелки ручных часов, стараясь делать это незаметно, чтобы не обидеть однокашника.
— Не преувеличивай, Павел.
— Преувеличиваю? Вы все так думаете. Даже те, кто тщеславие ловко маскирует бескорыстием, мнительность — прямодушием и даже деспотизм — демократизмом… — Он облизнул мокрые губы, нехорошо усмехнулся. — Вижу, не хочешь углубляться, не знаешь, как себя повести… Дополняю: можно ходить в миленьких, а быть подлецом.
— Не понимаю. Я не люблю кроссвордов. Вероятно, ты ночи напролет проводишь над ними, а меня захватил врасплох. Если ты кого-то персонально имеешь в виду, то назови… Вообще решил костить начальство? Тогда я тебе не соратник. Я этот расейский нигилизм терпеть не могу. Выискивание пороков в обществе, вечные потуги исправить их самолично, судить обо всем со своей скворечни…
Черкашин слушал внимательно, казалось, боясь упустить хотя бы одно слово. Когда собеседник замолчал и занялся кильками с яйцом, глаза Черкашина потускнели, дыхание участилось.
— Меня… сегодня… вытряхнули из моей скворечни… — Черкашин допил рюмку, принялся шарить в карманах, пока не извлек мятую пачку сигарет, закурил. — Может быть, на их месте я поступил бы так же оригинально…
— В Москве разберутся.
— Вероятно. Могу предположить безошибочно, ради меня не станут беспокоить начальника почетного караула. Еще один пинок, и… либо в китобои, либо намыливай штерт…
В ресторан ввалилась веселая, шумная гурьба. Две официантки, молоденькие девушки с модными европеизированными прическами, быстро заторопились в гардеробную. Метрдотель, споривший с кем-то из-за «повторных ста граммов», приказал освободить стол от грязной посуды.
В зале появился высокий красивый Хариохин в новом темно-синем костюме, в голубой рубахе с расстегнутым воротом. Лицо его дышало радостью, силой, довольством всем, что его окружало. За ним шли старший брат, на ходу причесывающий свои жидкие волосенки, напуская их на уши, и молодой синеглазый десятник, восторженный поклонник смеси жигулевского пива и водки.
— Девочки, пиво, только в кружках, бочковое, — приказал он молодым официанткам, подмигивая и посмеиваясь.
Не слишком-то бросались целковыми мастеровые, но их любили за славу, за удаль. Более меркантильные интересы руководили дирижером, развинченным малым в штиблетах с узкими носками и со скрипкой в руках: оборвав рапсодию, он единым взмахом смычка бросил в толпу гаммы Сигизмунда Каца — «Так-так-так, — говорит пулеметчик», любимую песню бывшего фронтовика Хариохина.
— Маэстро, спасибо! — тароватый Хариохин полез в карман пиджака за деньгами. — «Так-так-так, — говорит пулеметчик! Так-так-так, — говорит пулемет!»
Могучий, просторный, с широкими жестами решившего погулять мастерового, Хариохин сразу же занял первое место в этом зале, наполненном разными людьми, и подчинил себе внимание окружающих. Ему можно было позавидовать. И Черкашин завидовал, сам не зная почему. В его жизни появились какие-то новые мерила. Этим рабочим лучше, чем ему? Определенно. Тогда на кой черт училища, служба, позументы? Рабочим веселее, понятней, ясней. Никто не осмелится дать коленкой такому, как Хариохин. Пусть попробуют! Они, будто играючи, сложили город из инкерманских кубиков, а мы… кичились, трепались, ненавистничали, блудили, рассматривали прыщики в зеркальце, подбирали отмычки к чужим мыслям…
Потянулся к графину. Прядь волос упала на потный лоб. На красивом и мужественном лице по-прежнему держалась уродовавшая его гримаса.