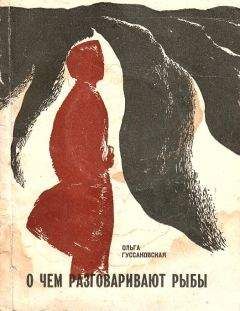— Не совсем. Просто очень люблю ночную тайгу и решил схитрить сам с собой. Вообразил, что не мог вас найти. А все-таки скажите: вы-то чего ради не спите?
— Я тоже люблю ночную тайгу. Но…
— Вы хотите знать, кто я? Новый начальник партии. Будем знакомы: Ветров Алексей Петрович. Так ведь полагается рекомендоваться?
Он говорил быстро, напористо и все время улыбался. И хотя его улыбка вовсе не была такой рекламно-красивой, как у Кости, она казалась ярче. В каждом движении этого человека были здоровье и сила.
Он снова подложил в костер узловатые ветки стланика. Пламя дружно взлетело в небо.
— Как вас слушается огонь! Точно какое-то волшебное слово знаете. Да, я забыла, зовите меня просто Леной, как все.
— Согласен, Лена. А огонь я люблю. Меня еще в институте «богом огня» прозвали. Здесь в тайге огонь — это жизнь. Впрочем, давайте говорить о другом. Человеку никогда нельзя разрешать садиться на любимого конька. К тому же вы так и не сказали, кем вы работаете здесь?
— Дневальной, — быстро ответила я, даже не подумав, зачем эта ложь.
Он недоверчиво покосился на меня, но ничего не сказал. Не поверил. Пусть. Он и не знает, что заставил меня решить главное — я остаюсь.
Ночь медленно переходила в утро. Исчезли тени. Их сменили выжидающие краски рассвета. Костер тоже выцвел. Алексей Петрович разбросал и те головешки, которые еще остались. Теперь только гибкая струйка дыма все еще тянулась ввысь. Выпала большая роса, и горько запахло кострищем, мокрой хвоей и старым мхом. Не спрашивая дороги, он пошел той же тропкой, что привела меня сюда. Я шла следом.
Вот и речка. Ветви лиственниц отяжелели от росы, спрятался куда-то ведьмин седьмишник. Наступает время солнечного алого кипрея.
Тишина наполнилась далеким грохотом и плеском. Это по руслу речки шел трактор. Тот самый. И вместе с ним стеной надвигалось вчерашнее. Вот оно рядом.
Пухлая, стиснутая золотым браслетом часов рука Веры Ардальоновны тянется ко мне за ведомостью. Глаза сотрудников исчезают. Я одна, и Вера Ардальоновна это знает. Сухо, как кузнечик, трещит арифмометр. На Галочке Донниченко опять новая блузка, а у Калерии Иосифовны болят зубы…
— Нет! Хватит!
Я сказала это вслух, и Алексей Петрович обернулся:
— Что «нет»?
— Да так… Дурная привычка говорить вслух с самой собой. Не обращайте внимания.
Погода портилась. По небу строем шли облака. Сумеречный, безрадостный свет падал через окно в комнату. Он ничего не скрывал и не приукрашивал.
Сквозь реденькие волосы тети Нади просвечивала старческая розовая кожа, а кокетливая мушка на щеке Альбины отливала чернилами. Крашеный ротик морщился привычной улыбкой. Глаза, как зеркало, отражали лишь то, что видели.
Никогда прежде я не чувствовала себя такой свободной от всего, что говорили и делали эти женщины.
А тетя Надя говорила, говорила. Я с полуслова потеряла нить рассказа:
— Ты как хочешь, а такого случая Алечка больше не встретит. Прямо как красное яичко в руки.
— О чем вы, тетя?
— Здравствуйте! Я-то стараюсь, рассказываю, думаю — своя: должно же быть интересно, а она… И когда ты только человеком станешь, Елена!
— Скоро тетя. В чем-же все-таки дело?
— Жених, говорю, Алечке нашелся. Из Москвы приехал. Студент. Все девчонки с ног сбились, а он все к ней да к ней. Понял, значит, оценил.
Алечка сидела рядом, не поворачивая головы. Я никогда не думала, как и чем она живет, а сейчас вдруг почувствовала, как это, наверное, тяжело: жить в роли залежалого товара.
Девчонкой, впервые попав «на выставку» — в городском саду на танцах, — она год за годом «не сходила с витрины». И все напрасно. Приехала сюда. Снова то же. Сотни взглядов и десятки равнодушных рук незаметно и навсегда отняли свежесть. Никто уже не хочет смотреть на уцененный товар… Оттого и головой не повела на слова матери: сама не верит, что на этот раз сбудется.
В дверь резко, коротко постучали. Алечка встрепенулась, рука метнулась по столу в поисках зеркала. На пороге стоял «он». Это я поняла сразу.
Я давно уже заметила, что ничто так не требовательно к стилю одежды, как маленький поселок на Колыме.
В городе вы можете быть одеты во что угодно. Город многолик и ему все равно.
В поселке вы поневоле будете носить лишь то, что просто и удобно.
Парень был одет под джеклондоновского охотника. И хоть ничего кричащего в его одежде не было, сразу чувствовалось — он здесь новичок. На куртке слишком блестящие молнии, сапоги не видели тайги, руки — не разжигали костров. И странное лицо. Словно тень чего-то знакомого, виденного много раз… Он даже красив, но что-то тревожное прячется в глубине серых глаз. Размах бровей не таит силы. Впрочем, это может быть просто от молодости. Ведь он — мальчишка.
Тетя Надя без толку засуетилась. Это означало, что на гостя ставка делается всерьез.
— Знакомьтесь! Это моя племянница!
— Лена!
— Вячеслав!
— Вячеслав Кряжев — московский студент, — придирчиво поправила тетя Надя.
— Ну, положим, студент это еще не профессия и звучит не так, — улыбнулся он. И вдруг я поняла, кого он мне напоминает.
— Простите, а ваш отец — не буровой мастер?
Я поймала себя на том, что мне очень хотелось сказать «нашей партии». Но на это я пока еще не имею права.
— Да… Почему вы так спросили?
— Я знакома с ним, а вы очень похожи на отца. Бороды вот только не хватает.
Вячеслав опять улыбнулся. Он улыбался легко и часто, как ребенок.
— Ну, это поправимо. А что, пойдет мне борода?
— Нет, уж лучше не надо! — сказала я. — А вы как сюда попали?
— На каникулы приехал. Отца повидать. Ну и поохотиться, конечно.
Я подумала, что насчет охоты — это для Алечки. Она давно уже смотрела на меня глазами рассерженной крысы. Пусть. Я не собираюсь отнимать у нее «добычу». Тетя Надя тоже забеспокоилась, захлопотала:
— Да что это я — и угощения у нас нету. Уж вы не обессудьте…
— Маман, оставьте, ничего не нужно, — резко сказала Алечка и встала.
Она всегда так называла мать — не поймешь, на каком языке, — не по-русски и не по-французски. Это обращение проводило между матерью и дочерью невидимую черту взаимного недоверия.
Вячеслав чуть заметно улыбнулся. Понял. Видимо, он не глуп. Но хотела бы я знать, что ему нужно у этих женщин?
Он снова повернулся ко мне.
— Лена, простите мое любопытство, но, если не секрет, а кем вы сами работаете?
— Дневальной той партии, где ваш отец.
Даже хорошо, что так случилось. Не будет долгих и ненужных объяснений. У обеих женщин лица вытянулись и стали одинаковыми, как отражение в воде. Вячеслав поднял брови.
Я посмотрела на тетю Надю:
— Да, тетя, я не шучу. Конечно, это не на всю жизнь, подучусь — дизелистом стану. Может быть, и дальше учиться буду… Не знаю еще. Пока останусь там. Вам этого все равно не понять, поэтому разговор можно считать оконченным.
— Оконченным! Ишь ты! Всю жизнь о ней заботилась, растила…
— Чесик, идемте гулять, здесь так душно, — скривилась Алечка.
Вячеслав охотно принял предложение. Никому не интересны чужие семейные сцены.
Я тоже решила уйти. Такого чувства полной отрешенной легкости я не испытывала никогда. Мне было совершенно безразлично, что еще скажет тетя Надя. Видимо, она это поняла. Мы расстались молча.
Дождя все еще не было. Только серое небо словно прижималось к крышам. Белые сугробы семян на обочинах панели тоже потеряли легкость, отяжелели и липли к ногам.
Идти домой не хотелось, а больше деваться было некуда. В агентство? Незачем. Все уже сделано и сказано. Вера Ардальоновна, наверное, до сих пор не пришла в себя. Пьет валерьянку (Галочка принесла из аптеки), потом будет пить чай. Калерия Иосифовна молча качает головой.
Дома все на своих местах, и все незнакомо. Многое показалось странным, чужим. Твой старый плащ на стене, готовальня, книги. Вещи потеряли ценность воспоминания и сразу стали реальными: у плаща оторван карман, в готовальне не хватает инструментов, книги случайные, у многих нет ни конца, ни начала. Просто старый, потерявший хозяина хлам… Я вынесла все это в коридор.
Завтра на рассвете я снова буду в пути, но сегодня… Телефон на столе, можно просто снять трубку и набрать знакомый номер. Далеко-далеко ответит твой голос. Или голос твоей жены. Только сейчас я вдруг поняла, что это значит: тебя нет.
И не больно. Почти не больно — так честнее. Наверное, совсем эта боль не уйдет никогда. Но звонить незачем, и мне даже не надо приказывать себе не делать этого.
Спать я все-таки не могу. На улице тихо. Небо в длинных полосах разорванных ветром туч. Среди них ныряет луна. В такие вечера всегда тревожно и неуютно. Все сделанное людьми — поселок, электростанция, смутно чернеющая вдали драга — кажется маленьким и непрочным. Зато огромны и непоколебимы сопки.