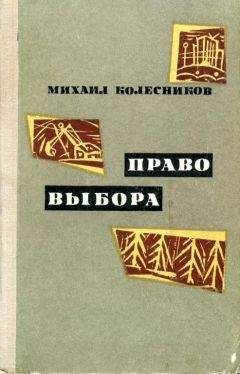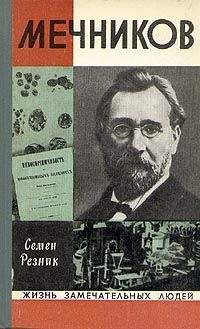Марину назначили (не без моего ходатайства) главным инженером. На должность хотели поставить Зульфию. Она знала, ей обещали… И я это знаю. Но ведь Марина не только инженер, но и талантливый изобретатель. Конечно, должность есть должность, и изобретательство тут ни при чем… И Зульфия догадывается о моих хлопотах за Марину. Мне как-то неприятно от молчаливого взгляда больших глаз Зульфии. В них нет укора. Просто она следит за каждым моим движением и молчит. Только Марина ни о чем не догадывается. Она верит в доброжелательство той же Зульфии, всех окружающих. Она — дочь Феофанова. Зульфия даже мысленно не может ставить себя рядом с ней. Она дочь Феофанова — тем все сказано. Начальству виднее. И как ни странно, я не испытываю угрызения совести. Произношу громко:
— Я хотел бы перевести тебя в «думающую группу». Ведь ты, по сути, тоже занята вопросами регулирования. Поговорю с Подымаховым…
— Нет, нет. Спасибо. Мне и здесь хорошо. Ненавижу всякие протекции.
Ничего не поделаешь — женская логика.
Марина приходит сияющая, радостная.
— Можете поздравить: местком дает отдельную комнату! Маринку — в детский сад.
Я ошарашен:
— Комнату? А зачем тебе комната?
— Не вечно же надоедать вам. И так целых два месяца.. Мы сломали весь уклад вашей жизни.
Присаживаемся в гостиной. Анна Тимофеевна возится на кухне. Марина-маленькая взобралась ко мне на колени.
Окидываю взглядом свое жилище. Уют здесь создан руками Анны Тимофеевны. Не холодный уют современных квартир, где голо, как в кафе, а тот, несколько патриархальный — с картинами и коврами, тяжелыми шторами.
— Разве тебе здесь плохо?
Она усмехается:
— Вы же всё прекрасно понимаете…
Давно ли она говорила: «Мне все равно, — понимаете? — все равно. В конце концов, кому какое дело до меня?..»
Беру ее холодную руку, прикладываю к губам.
— Этот дом — твой дом. Я пять лет ждал, чтобы сказать тебе это. Ведь ты мой эпиорнис. Не правда ли? Я не хочу думать, что тебя сюда привели обстоятельства. Мне показалось, что ты вернулась ко мне. Ведь я тебя люблю. Ты знаешь, как я люблю тебя, Марина. Ты — смысл моей жизни. Без тебя она превратится в жалкое прозябание. Я тебя прошу, умоляю: будь моей женой!..
Я говорю долго, в горячечном пароксизме. Она не отнимает руки. Глаза наполнены слезами.
— Я благодарна вам за все. Вы единственный на всем свете.. Все это так неожиданно… Нельзя все сразу… Я должна прийти в себя от пережитого, а потом уже решать. Кроме того, мы с ним еще не разведены официально. Будет суд и прочие неприятные процедуры. Все это так тяжело… Вы не должны торопить меня с ответом…
Она легонько проводит рукой по моей щеке.
— Хорошо. Я готов ждать сколько угодно. Я ведь все понимаю. Ты мой эпиорнис, и мне ли не знать тебя?..
Вечером у Марины новоселье. Никогда не предполагал, что там, в месткоме, действуют так оперативно. Получение квартиры — ритуал, священнодействие, очередь, драгоценный ордер. Один мой знакомый любит говорить: «Вот получу квартиру, тогда и умереть можно спокойно». В наших коттеджах с наступлением зимы — зверский холод. Кто-то усиленно экономит уголь и получает премии. Приходится включать все обогревательные электроприборы. Нагорает больше стоимости сэкономленного угля и премии, вместе взятых. Но человек должен стараться…
Разглядываю блок-схемы, а мысли блуждают где-то далеко. Скорее бы закончился служебный день! Видеть ее сделалось потребностью. Хоть на минуту… А сегодня — целый вечер. Не знаю, способен ли кто-либо в подобном состоянии к научному творчеству?
Теперь, когда вариант Вишнякова официально утвержден, можно трудиться спокойно, не гнать. Обоснование, расчеты. Тем и заняты целыми днями.
И все-таки каждый из нас испытывает неудовлетворенность собой. Не достигли!.. Потому-то наряду с основной работой, потерявшей творческий привкус, каждый старается придумать что-то принципиально новое. И в первую голову сам Вишняков. «Непробиваемый» Вишняков сделался раздражительным. Обвис, щеки втянуло до черноты.
Ходит, бормочет:
— Бороду на одеяло, бороду под одеяло…
На столе гора окурков. Дядя Камиль впадает в неистовство. Приходится его легонько выдворять.
У Бочарова все время на губах глупая улыбка. Не пойму, в чем дело. Он тоже «опустился»: стал носить галстук, белые сорочки; на столе скомканные листы, пепел, томик модных сумасшедшеньких стихов, от которых у меня сверлит в ушах.
Ардашин не теряет надежды вырваться вперед, поразить человечество своей блок-схемой.
…И все-таки я должен был уговорить Марину… Отпустил. Глупо, глупо… Она сразу отдалилась от меня на тысячу километров. Инфантильный субъект…
Олег Ардашин бубнит рядом:
— Мы производим регулирование системы движением секции оболочки, находящейся около активной зоны…
— Инфантильный субъект! — произношу вслух.
— Вы так считаете? — Ардашин обескуражен.
Спохватываюсь:
— Вы правы, Олег. Как вы додумались?
Он глядит с изумлением:
— Додумался? Все записано в вашем учебнике для младших курсов. Страница сто пятьдесят восьмая.
Начальство всегда вызывает не вовремя.
— Хочу подогреть в вас энтузиазм! — говорит Подымахов. И это почти в конце рабочего дня!
Ведет на «территорию». Здесь полным ходом развертывается строительство. Экскаваторы долбят мерзлый грунт. На площадке будет сосредоточено почти сорок объектов: тут и компрессорная, и насосная, административные корпуса, подстанция, вентиляционная станция, цистерны, колодцы. Все уже заранее обнесено заборами: ограждающим, внутренним. И оттого, что здесь работа идет споро, как-то тягостно становится на душе. А мы со своей «думающей группой» где-то в самом начале пути! Не станут же приостанавливать строительство из-за нашей инертности, несообразительности! Тревога овладевает мной все больше и больше, тревога и ощущение собственной ничтожности. С чего я вообразил, что могу хвататься даже за чисто практические задачи?! Ну какой из меня инженер? Теоретическая физика, математика — вот она, моя «зона ограничения»… Скоро начнется закладка фундамента под будущую установку. Архитекторы разработали оригинальный проект главного здания. Им удалось уловить стиль эпохи атомной энергии и освоения космоса.
— Чем-то смахивает на крематорий, — кривится Носорог. — Да шут с ними. Эпоха… Приходится считаться. Дело в конечном итоге не во внешнем оформлении, а в удобстве. Я, например, не могу привыкнуть к черным колоннам в фойе нашего института. А кому-то, должно быть, нравится. И вообще в современных зданиях чувствуешь себя, как в аквариуме.
Потом, продрогшие, пьем чай в кабинете Подымахова.
— Пейте цейлонский чай. А еще лучше — краснодарский. Хорошо мозги прочищает.
Ерзаю на стуле. А он не торопится. Да и куда торопиться, если жизнь позади? Благодушествует. Самый удобный момент втолковать мне, чем отличаются друг от друга содержательный и формальный метод исследования.
Такое впечатление, будто он убеждает не столько меня, сколько самого себя. Ведь для меня вопрос давно решен: из «чистого» физика-теоретика я незаметно превратился в самого ярого прикладника, стал создавать, даже изобретать экспериментальную аппаратуру, которой пользуется кто-то другой. Но я понимаю Подымахова: он, так сказать, всю жизнь наступал «на горло собственной песне» — в каждом из нас живет смутная вера, будто мы были рождены для глубоких теоретических обобщений, для великих гипотез. И вот ради блага других пожертвовали собой, стали аппаратурщиками.
Я-то Подымахова давно понял, а он все пытается разгадать меня. Зачем?
Заговаривает о прошлых днях. Феофанова вспоминает с теплотой.
— В принципе я никогда не был против умозрительного метода. Но тогда должен был спорить с Феофановым, в противном случае мы отстали бы от Америки лет на пятьдесят. Приходилось бороться за экспериментальную технику индустриального масштаба: синхрофазотроны, реакторы. Мы их создали.
Разговору не видно конца. Носорог залез в абстрактные дебри и увяз по пояс. Откровенно поглядываю на часы. Вот он сидит передо мной, старый человек, большой ученый, отдавший жизнь поискам. Он весь в поисках.
Есть ли у него что-нибудь личное, свое? Жена, дети, заботы о благополучии?.. Любит ли он Моцарта или Бетховена? Остановился ли он хоть раз в немом благоговении перед картиной великого художника? Где начинается и кончается человечность? Или, может быть, безвозвратно ушло время ученых мужей-энциклопедистов и мы незаметно превратились в специалистов узкого профиля?..
Я понимаю, но не знаю Подымахова. И вряд ли когда узнаю. А ведь именно это они, вот такие, составляют цвет современной цивилизации и по их делам потомки будут судить о нас.