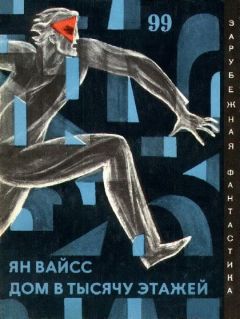— А когда ты ездил в этот питомник?
— Давно уже… — Андрей Данилович выгнул правую бровь. — Считай, лет восемь прошло.
Худобин засмеялся.
— Ну и ну… А теперь, значит, обиделся на того кандидата? Долго же до тебя доходит.
Андрей Данилович вяло улыбнулся и слез с полатей.
— Бог с ним, с кандидатом. Да и не работает он уже там. Просто сидел вот я сейчас и думал, что яблоко то было лучшим из всего, что я успел в саду вывести.
Он выплеснул на пол мыльную воду из тазика, налил свежей, холодной, и вылил ее себе на голову. Сказал, потирая ладонью грудь:
— Дышать легче стало, — и пошел к дверям, завихривая лодыжками стлавшийся над полом пар.
— Погоди, погоди… — заторопился Худобин. — А неприятности у тебя все же какие?
— Ладно. Пошли, — отмахнулся Андрей Данилович.
Они оделись и по старой привычке прошли в буфет — распаренные, с помолодевшими лицами. После бани они всегда цедили в буфете подогретое пиво и, отдыхая, не спеша разговаривали.
Поставив тяжелые кружки с пивом на влажный, словно в росе, столик — пар проникал даже в буфет, — Андрей Данилович сказал:
— Посиди-ка…
Вышел из бани и, широко шагая, косо пересек темнеющую улицу к желтым огням магазина. Вернулся с бутылкой водки, вспузырившей нагрудный карман пальто.
— Ну-у, брат… Да что с тобой? — удивился Худобин. — Или верно серьезные неприятности? Так этим делу не поможешь.
Андрей Данилович взял с подноса, стоявшего на столешнице, стаканы и разлил водку.
— Жили себе, жили, понимаешь ли, и вдруг: бац — меняй дом на квартиру в центре, — сказал он. — Прямо с ножом к горлу пристали.
— Ага. Ясно, — Худобин глотнул из стакана и поставил его на стол, загораживая на всякий случай кружкой с пивом.
— Что ясно?
— Ну, что дом хотят сменять. Закономерно. Город растет — и всем, понятно, хочется устроиться с удобствами. Забот меньше. Спокойнее.
— Кому хочется, а кому и нет, — отрубил Андрей Данилович. — У меня, как тебе известно, еще и сад есть.
— Сад — да. Сад жалко. А почему, собственно, твои решили переезжать?
— Жене, видишь ли, времени на работу мало. Далеко живем.
В буфет набилось полно людей — все из бани, все разгоряченные, влажные. Стало душно. С потолка тяжеловато свешивались крупные капли.
Вынув платок, Худобин отер лоб и вспотевшее лицо. Молча посидел, помаргивая на Андрея Даниловича, и вдруг спросил:
— Ты мне вот в парной притчу про яблоко рассказывал… Скажи-ка, а садов сейчас в области много? Ну, государственных там, колхозных?
— Да есть… А что? — удивленно посмотрел на него Андрей Данилович. — Не так, чтоб очень густо, но есть.
— И садоводы, наверное, есть? Настоящие. Не как твой дураковатый кандидат, а настоящие ученые-садоводы?
— Само собой есть. Да тебе-то что?
— Да так. Небось, не всякому в наше-то время сунешь под нос яблочко из палисадничка?
— А-а! Ты вон куда клонишь, — Андрей Данилович сузил глаза, раздул ноздри и нацелился на приятеля указательным пальцем. — Имей в виду!.. У тех садов земли сколько? Гектарами? А у меня при доме участок с полотенце. Тем и удобрение привозят, механизация есть… Лаборатории и прочее… А я сам жнец и на дуде игрец. Да мне бы столько земли, да свободного времени, да еще…
Худобин поднял над столом ладонь.
— Понесло-поехало… Словом, надо тебя директором совхоза назначить, вот ты и развернешься. А сад что? Для себя только.
— Причем здесь совхоз, — поморщился Андрей Данилович и потянулся к стакану. Но стакан стоял пустым, и он сказал: — Посиди-ка.
— Э-э, нет. Хватит, — ухватил его приятель за рукав пальто. — Если тебе так выпить хочется, то уж лучше ко мне пойдем.
Снег возле бани в свете электрической лампочки казался бурым, а у стены он подтаял, и там тянулась черная полоска открытой земли.
Сойдя по ступенькам вниз, Андрей Данилович сказал с обидой:
— Выходит, по-твоему, в моем саду я вроде как индивидуалист какой?
Худобин взял его под руку.
— Да брось ты. Ничего подобного я и не думал. Просто мне кажется, что в вашем споре жена твоя стоит на более общественной, что ли, точке зрения, вот и решай, кто из вас прав, кому следует уступить.
— А я вот не хочу уступать! — запальчиво выкрикнул Андрей Данилович.
— Вот и догадался, кто уступить должен, — рассмеялся Худобин. — Молодец, Данилыч.
Что на это ответишь? Получалось так, будто приятель все знал наперед, и разговор терял всякий смысл. Но Андрей Данилович все равно пошел к нему, долго сидел в его уютной и теплой квартире, пил, мрачнея лицом, стопками водку, тяжелел от нее и никак не мог уяснить и высказать что-то самое главное, что волновало его больше возможной утраты дома и сада, отчего под сердцем копилась горечь и появлялось ощущение зыбкости собственной жизни.
Выпил он излишне много и возвращался домой, то покачиваясь, то переходя на строевой шаг. Жался ближе к домам, в тень заборов. Почему-то вспомнилась любимая песня отца, и он еле слышно напевал:
Соловей кукушку уговаривал:
Полетим, кукушка, в близенький лесок.
Полетим, кукушка, в близенький лесок.
Выберем, кукушка, любленький кусток.
И совьем, кукушка, себе гнездышко.
И совьем, кукушка, себе гнездышко.
Выведем, кукушка, двух цыпленочек.
Тебе — кукоренка, а мне — соловья…
Возле дома стояла у палисада дочь. Рядом переминался с ноги на ногу парень.
— Так вот он, значит, какой — Степка! — заглянул Андрей Данилович парню в лицо.
Уже лежа в постели, он вспомнил, что Степкой зовут не этого парня, а того, который ухаживает за его секретаршей, а потом вдруг приподнялся на локтях и отчеканил:
— Дом спалю, а сам повешусь!
Всю ночь ему снилось, будто стоит он у колодца в деревне и пьет из ведра холодную воду, но напиться никак не может, хотя от воды раздуло живот. Утром нестерпимо болел затылок. От стыда за вчерашнее Андрей Данилович не мог поднять глаз и тихо прошел по-над стенкою в ванную.
Открыл душ и сидел под холодными струями, пока жена не постучала в дверь.
— Жив ли ты там, отец? Выходи.
Мы за стол сели.
— Сейчас, Иду… — отозвался он.
За завтраком жена поставила на стол бутылку вина.
— Выпей… Если хочешь.
Вошла в столовую дочь, придвинула к столу стул, села и сказала в пространство, будто так просто, для себя:
— А у алкоголиков сердце обрастает жиром.
Жена прикрикнула на нее:
— Не стыдно тебе?! Выучилась!
К вину Андрей Данилович не притронулся, но пил много чаю. Все долго молчали, но вот жена осторожно спросила:
— Так как же, Андрей, поступим с домом?
Он устало ответил:
— Меняйся уж.
— Квартиру Ракова заняли. Нас не ждали.
— Ладно… Схожу в горисполком. Думаю — поменяют.
После этого все окончательно закрутилось. С председателем горисполкома Андрей Данилович постоянно сталкивался по работе, хорошо его знал, даже был дружен с ним, поэтому об обмене дома договорился быстро, и в первые весенние дни они вместе поехали смотреть место, где среди высоких каменных зданий в центре города собирались втиснуть еще одно.
Бежевая «Волга» с напрягшимся в прыжке оленем на радиаторе шла, норовисто оседая на задние колеса. Машину вел сам председатель — сутулился у руля и завороженно смотрел на мокрый, съедающий снег асфальт дороги; Андрей Данилович сидел рядом, развалясь на мягком сиденье, ноги положив крестом. По ветровому стеклу, тяжело отваливая в стороны сочащийся водой снег, трудно ходили щетки «дворника».
Мутные от сероватого снега, неожиданно повалившего после тепла, улицы проглядывались плохо, обрывались совсем близко, и город, казалось, растерял окраины, поджался к центру. Дома помрачнели, блеклые окна пусто отсвечивали.
Ехали все прямо и прямо по главной улице.
Неожиданно председатель подался телом в сторону и резко крутанул руль. Андрея Даниловича мягко придавило плечом к дверце.
Выехали на тихую улицу с озябшими липами вдоль тротуаров. Из машины вышли возле щелистого сырого забора. Наспех сколоченный из случайных досок и подвернувшихся под руку горбылей, был он коряв и неровен, а от сырости темен.
За забором чернел котлован для фундамента.
— Здесь и будешь жить, — председатель показал пальцем на дно котлована. — Лучше места не найдешь. Самый центр. И тихо.
На глинистых боках котлована местами осел снег, а на дне стояла мутно-ржавая лужа. Снизу, как из погреба, тянуло мозглым холодом.
Андрей Данилович передернул плечами.
— Как тихо в таких домах бывает — я знаю. Если в одной квартире музыку заведут, так весь дом под нее плясать сможет.
— Почему? Дом будет не малометражный.
— А-а… Все едино.