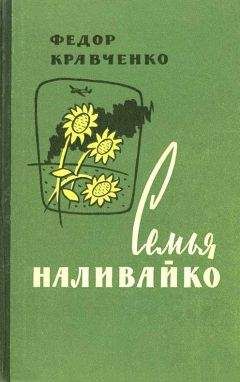— В партизаны иду.
Девушка заволновалась:
— Андрей, ты это серьезно? Скажи, серьезно?
— Серьезно.
Я никогда не думал, что Нина решительный человек. Она всегда казалась мне мечтательницей. С ней приятно было поговорить о стихах, о музыке. Какой-нибудь пустяк мог рассмешить ее; она хохотала, пока слезы не ослепляли ее. Я и мысли не допускал, что Нина может сказать:
— Мама, я тоже в партизаны пойду.
Подумала ли она о том, что ее ждет? Я-то обо всем подумал. И в первую минуту мне страшно стало, что Нина останется вместе со мной. Затем охватило чувство какой-то неизведанной еще радости. Мне хотелось взять Нину за руку и бежать вместе с ней в поле, в лес, к реке… Бежать и горланить, как в детстве… Но я молча подошел к ней и только крепко сжал ей локоть.
Она ни разу не всплакнула. Зато Настя дала волю слезам. И Нина, краснея, умоляла ее:
— Не позорь меня, мамочка. Я комсомолка. Другие девчата на фронт пошли — и то не побоялись. А тут же совсем не страшно.
Она взобралась на телегу, поцеловала мать и моментально спрыгнула, как бы боясь, что Настя попытается задержать ее. Настя перестала плакать. Она с изумлением смотрела на. Нину, словно не узнавала ее. Нина сказала, помахав матери рукой:
— Скоро увидимся, мамочка!
Стокоз пожал плечами и, схватив вожжи, ожесточенно дернул их.
— Черт, знает, что за люди! — сказал он с озлоблением. — Могут уехать и остаются. А тут…
Только на следующий день я узнал, почему он так нервничал: ему, Стокозу, приказано было остаться.
Степану Стародубу поручили эвакуировать тракторы, и он с работниками МТС еще раньше покинул район. Колхозники отправились вслед за механизаторами.
Мы с Ниной долго стояли посреди дороги, глядя на опустевший горизонт. Утром вернулся Стокоз, провожавший свою жену до Старых Дубов: Он рассказал нам о том, как немцы бомбили колхозников.
Когда передние подводы приблизились к Старым Дубам, в небе показался фашистский разведчик. Вскоре он скрылся.
Мать заспорила с Сидором Захаровичем. Она требовала, чтобы обоз продолжал двигаться, не задерживаясь нигде ни на минуту. Надо было подальше уйти от фронта. Но Сидор Захарович приказал сделать привал. Не обращая внимания на колхозников, поддерживавших мать, он оставил часть телег на самом видном месте, посреди обширной поляны, а все остальное добро вместе с людьми расположил далеко в лесной чаще.
В небе появился фашистский бомбардировщик и начал сбрасывать бомбы на поляну. От телег, брошенных по приказу Сидора Захаровича, не осталось и щепки. А колхозный обоз, дождавшись вечера, двинулся дальше.
Рассказав об этом, Стокоз глубокомысленно заметил:
— Тут оставаться безопасно: немец не будет бомбить пустое село. А там кто его знает… — Он вздохнул, подавляя зевоту. — Может, моя женка не доедет до места…
Он посеял в наших душах тревогу. Мы не имели никаких сведений от матерей. Нина делала вид, что она абсолютно спокойна, но глаза у нее были красные, припухшие.
На следующий день Полевой должен был эвакуировать свою жену Людмилу Антоновну с двумя близнецами. Вместе с ними собиралась уехать Анна Степановна с Олегом. Однако Стокоз потребовал, чтобы Анна Степановна осталась в селе. Он говорил о ней, как о замечательной боевой женщине. Только такой человек, как Анна Степановна, может справиться с работой, которую поручали самому Стокозу. Пока Анна Степановна будет находиться в селе, никто не осмелится нарушить порядок.
Руководители района охотно поддержали кандидатуру Анны Степановны. И только после внезапного отъезда Стокоза узнали, что у Анны Степановны ребенок.
Об этом мне рассказал Полевой, не перестававший возмущаться поступком Стокоза, оставившего вместо себя Анну Степановну.
Она после жалела, что не отправила Олега с матерью. Полевой успокаивал ее. Он договорился с начальником станции и хочет отправить Анну вместе со своей семьей, как только выздоровеют дети (близнецы некстати заболели корью).
Мы все вместе убирали пшеницу на оставленном нам небольшом участке. В глубоком лесу прятали зерно, которое в будущем могло пригодиться партизанам. Все, что можно было вывезти, грузили в вагоны и отправляли в глубокий тыл.
Поселились мы в домике возле железнодорожной станции. Днем работали, по ночам дежурили. Я с Костей был в пожарной команде. Нина стала сандружинницей. Иногда мы ходили в поле, вспоминали школьную вечеринку.
Поле стало другим. Тут и там чернели выжженные нивы; подсолнечники были раздавлены катками — их нельзя было оставлять гитлеровцам. Пусть и не надеются на «трофеи»!
Однажды мы встретили старуху, блуждавшую в поле, словно она что-то искала. Это была мать Кирилюка. Она отказалась уехать: трудно было расстаться с родным селом. Блуждая по полю, она старческими глазами разглядывала его. Заметив нас, она вдруг закричала:
— Гляньте сюда! Вы только погляньте, деточки!.. Они не хотят умирать…
Мы подошла к старухе. На земле, у ее ног, лежали сломанные подсолнечники. Их золотые головки все еще тянулись к солнцу.
Мы уходили домой, осторожно ступая, чтобы не задеть их нежные лепестки. Казалось, старуха похвалит нас за это, но она укоризненно покачала головой:
— Для немцев оставляете? Чтоб они не дождали…
И начала срезать подсолнечники кухонным ножом.
Я видел ее в поле несколько раз: она медленно, но упорно уничтожала ожившие растения… Каждый день старуха приходила в поле, как прежде на работу.
Костя часто уходил к себе домой и возвращался совершенно расстроенный. Он не знал, что ему делать с вещами. Неужели все это добро достанется гитлеровцам?
Я советовал сжечь дом вместе со всеми вещами, тогда будет легче. Костя злился:
— Давай сначала твой спалим.
— Мой не мешает мне.
— Потому что твоя мама все добро вывезла.
— А твой батька не успел?
— Мой батька не такой шкурник, как твоя мамка. Он хотел остаться, чтоб вместе в партизаны пойти. Так его силой увезли. А твоя мамка просто сама удрала.
— Прикуси язык!
— Правда очи колет.
Я схватил его сзади за воротник. Нина бросилась ко мне и заставила отойти в сторону. Я жалел, что не успел как следует поколотить Костю. Надо же учить таких!
Я начал избегать его. Тогда он первый подошел ко мне и извинился.
— Помнишь, мы с тобой пили за дружбу.
Нина была рада, что мы помирились. Она не переносила ссор.
Мы с Ниной все время бывали вместе. Если я дежурил, она приходила ко мне на дежурство. Если она дежурила, я не отходил от нее. Иногда мне казалось, что наши матери погибли и что во всем мире мы остались одни. Я заботился о ней, словно она была родной сестрой. Стоило ей отлучиться куда-нибудь на часок, как я уже начинал волноваться. Проснувшись, я стучал в дверь соседней комнаты, чтобы скорее убедиться, что Нина жива, здорова.
Нина также волновалась, если я где-нибудь задерживался. Объясняла она это просто: «Теперь война, все может случиться». Каюсь: я иногда умышленно задерживался где-нибудь, чтобы лишний раз почувствовать ее тревогу.
В первый вечер, когда я дежурил, Нина не решалась подойти ко мне. Она сидела в станционном скверике и скучала. Было еще светло. Солнце только-только приземлилось; сосновый лесок, начинавшийся за железнодорожной насыпью, был как в сказке: оранжевые, почти красные стволы выделялись вдали, словно огненные столбы, над которыми застыл кудрявый розовато-зеленый дым. Лес вскоре погас, и мы, не оглядываясь, догадались, что солнце ушло за горизонт. Я осмелел, приблизился к Нине. Она держала в руках старый, потертый том «Тысячи и одной ночи». Я спросил:
— Не страшно, Ниночка?
— Не-ет.
— Может быть, ты жалеешь, что не уехала?
— Не-ет, — ответила Нина и вдруг быстро проговорила, желая переменить разговор: — Здесь написано «Шахразада», а я когда-то читала другую книжку, и там было написано «Шехерезада». Почему это так, Андрей?.
— Слушай, Шахразада, — сказал я, стараясь заглянуть Нине в глаза, — а что, если ты уедешь вместе с Анной Степановной и женой Полевого? Нашим матерям веселее будет.
Нина не слушала; несмотря на сумерки, она читала:
— «…И Шахразаду настигло утро, и она прекратила дозволенные речи, а когда же настала восемьсот сорок первая ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Сандаль-евнух рассказал Джафару-Бормакиду…»
— Ты себе глаза испортишь, — сказал я, закрывая книгу.
— Да… я уже ничего не вижу, — призналась Нина. — Я теперь такой же крот, как и ты.
Она минуту помолчала и неожиданно попросила:
— Расскажи мне что-нибудь, Андрей. Сказку расскажи.
— А я не умею сказки рассказывать.
— Умеешь, Ребята говорили, что ты сам сказки, выдумываешь.
— Наврали.