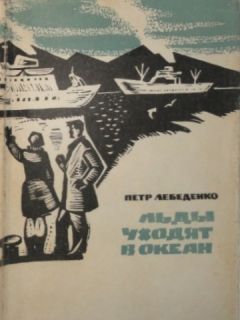— Садись! — и сама села напротив. — Давай-ка поговорим с тобой по душам!
Марина тихо ответила:
— Как хочешь…
— Ты мне вот что скажи, — впервые Анна говорила с ней так резко, даже грубо. — Кто виноват в том, что ты там наделала? Кто? Тебя что, заставляли шашни водить с этим паразитом Зарубиным? Заставляли лизаться с ним, когда рядом с тобой был настоящий человек?
Марина молчала.
— Ты не молчи! — крикнула Анна. — Не молчи, слышишь? Осточертело мне глядеть на твою кислую рожу. Обидели бедную, несчастную! Небось, когда хвостом перед Зарубиным вертела, глазки не такими печальными были. Не такими, а? Шла к нему на корабль — фу-ты, ну-ты! А теперь?
— Не кричи, Анна, — Марина зябко повела плечами, повторила: — Не кричи…
— Буду кричать! — Анна стукнула кулаком по своему колену, ближе придвинулась к Марине. — Буду! Знаешь, как у нас говорят? Шкодлива, как кошка, труслива, как заяц. Это про таких, как ты. Нашкодила, а расплачиваться духу не хватает? Расслюнявилась, рассоплилась, глядеть тошно. У нас тут, на Севере, монастырей нету, голубушка, запомни это. Чего глаза закатила, как Мария Магдалина? Нарядилась в тряпье какое-то. Ну-ка!..
Анна бесцеремонно сдернула с нее платье, схватила за одну ногу, за другую — туфли полетели к черту. Подскочила к шкафу, сорвала с вешалки лучшее Маринино платье, вытащила из ящика туфли, все это бросила на кровать.
— Одевайся!
Через полчаса они были готовы. Анна подтолкнула Марину к зеркалу и, еще не остыв, сказала:
— Посмотрись.
Все, кажется, было как прежде. Ее волосы не нуждались в завивках — густые, они крупными волнами падали на шею, и, хотя все ей говорили, что это не модно, она ничего менять не хотела. Легко подвязывала неширокой лентой, и, когда встряхивала головой, темные волны будто разбегались в стороны, потом снова сталкивались и снова разбегались. «Буря!» — часто восхищался Марк, прикасаясь рукой к ее волосам…
Брови у нее были длинные и темные, а о ресницах Марк говорил, вкладывая в свои слова особый смысл: «Такими можно прихлопнуть любого парня». И еще он что-то говорил о них, Марк Талалин, она забыла… Марк… Все Марк…
Губы ее вздрогнули, она отвернулась к окну. И как-то вся сжалась.
Анна на цыпочках подошла к ней, обняла, повернула лицом к себе.
— Ну чего ты, Марийка? — спросила шепотом. — Обидела я тебя? Тяжело тебе?
И не выдержала, уткнулась лицом в плечо Марины, всхлипнула:
— Ой, какая же я… Какие же мы бываем дуры…
…Она привела Марину в ресторан, где сама работала официанткой. Оценивающим взглядом директор окинул Марину с ног до головы, коротко сказал:
— Подойдет. На стажировку — один вечер.
Марина не обрадовалась, не удивилась. Все равно.
Уже после, когда они вышли из кабинета, спросила у Анны:
— Что я буду делать?
Она, наверно, не огорчилась бы, если бы ей пришлось работать в кочегарке, в посудомойке, на кухне — какая разница?
— Будешь официанткой, — сказала Анна. — Пока. А потом перейдешь в буфет. Довольна?
— Мне все равно, — ответила Марина.
1
Как всегда, ровно в шесть метрдотель включил большую люстру, официант Костя Любушкин распахнул двери и торжественно провозгласил:
— Милости просим!
В вестибюле к этому времени уже накапливалось чег ловек тридцать посетителей, которые нетерпеливо устремлялись к столикам. На ходу бросали Косте Любушкину короткие приветствия:
— Рыцарю салфетки!.. Ресторанному царевичу Константину — привет!.. Косте-пищеблоку — наше почтение!..
Любушкин широко улыбался, показывая крепкие белые зубы, поправлял черную бабочку на белоснежном воротнике и грациозно кланялся.
У Кости было телосложение боксера, могучая шея и глаза с поволокой. Ему было трудно научиться кланяться, но он научился. Нелегко давалась улыбка, но он постиг и это искусство. Талант. В свои двадцать шесть лет Костя Любушкин по умению услужить давал сто очков вперед ветерану ножа и вилки старику Пашецкому, который не раз говорил: «Я подавал самому адмиралу Галичу…» Что это за адмирал Галич и где ему подавал Пашецкий, никто не знал, но старика уважали.
Любушкин подошел с подносом, поставил его на стойку, сказал:
— Три графинчика коньяку «пять звездочек»… Триста «Столичной»… — Давал заказ, а сам неотрывно глядел на Марину и чуть улыбался. — Две бутылки «бархатного»… Ты плохо выглядишь сегодня, Машенька… Что-нибудь случилось?
Марина поставила на поднос коньяк, водку и пиво, спросила:
— Что еще?
— Еще я хотел бы попросить тебя, Машенька, чтобы ты была со мной чуть поласковей… Разве это так много?
Она посмотрела на него: не в глаза — на ровный, как раз посередине, зализанный пробор (Любушкин смачивал волосы пивом — так они лучше держались), потом перевела взгляд на полотенце, висевшее у него на руке. Обычно она смотрела на Любушкина с нескрываемой неприязнью, сейчас же в ее взгляде не было ничего, кроме безразличия. Любушкин понял это по-своему: может быть, ей уже надоело враждовать, в конце концов должна же она оценить его внимание!
— Машенька!
Любушкин хотел взять ее руку, но к буфетной стойке некстати подошел Пашецкий. Костя подхватил свой поднос, окинул уничтожающим взглядом старика и, лавируя между столиками, заспешил в дальний конец зала.
Пашецкий посмотрел ему вслед, улыбнулся.
— Если бы у меня было сейчас столько сил, — сказал он, — я ушел бы в море матросом. Но у меня никогда не было столько сил, Мария. Когда тридцать пять лет назад я подавал адмиралу Галичу, он положил на мой поднос червонец и сказал: «Купи своей красотке хороший подарок». Я не имел в то время красотки и вежливо ответил: «Покорно благодарю вас, адмирал, но мне некому преподносить подарки, и прошу пана, Станислав Пашецкий слишком горд, чтобы брать подачки…»
Марина перегнулась через стойку, поправила на Пашецком галстук, спросила:
— Он обиделся?
— Он не обиделся. Он сказал: «Ты был бы хорошим матросом, Станислав Пашецкий. Но ты слаб телом, для моря ты не годишься». И я тоже не обиделся на адмирала Галича, потому что он был прав. Да, он был прав, Мария. Я всегда был слаб телом…
— Вы очень хороший человек, Станислав Станиславович, — искренне проговорила Марина. — И я вас очень уважаю.
— Спасибо, Мария, — растрогался старик. — Я вас тоже очень уважаю, хотя мне и не все в вас понятно. Мне хотелось бы лучше вас узнать…
— Для чего это, Станислав Станиславович? — улыбнулась Марина. — Разве вам не все равно, какая я есть?
Старик покачал головой:
— Нет, Мария. Мне даже не все равно, какой есть Константин Любушкин. Потому что он тоже советский человек, как ия, В нем много плохого, а мне хотелось бы, чтобы плохого в нем было меньше…
Улыбка сползла с ее лица, она посмотрела на Пашецкого так, будто старик коснулся такого, о чем Марина не хотела вспоминать. Она сказала:
— В каждом из нас много плохого… Только не всем это видно…
— Нет, нет, Мария! — Пашецкий предостерегающе поднял руку, не соглашаясь. — Разве можно сказать о вас, что…
— Не надо! Обо мне не надо! — не грубо, но резко бросила Марина. — О себе я не люблю…
Старика несколько удивила такая перемена в ее настроении, но он промолчал. Поставил на свой поднос графинчик и рюмки, пригладил ладонью редкие седые волосы и пошел от стойки. Марина видела, как он медленно обходит столики, стараясь выпрямить сутулую спину, как он слегка кланяется знакомым (не так, как это делает Любушкин — подобострастно-заискивающе, как настоящий холуй, а с достоинством и просто, даже не кланяется, а чуть кивает головой), видела его тощую сморщенную шею, и непонятная жалость к нему охватывала ее все больше и больше. Она и сама не знала, откуда у нее это чувство жалости. Никто старика не обижал, да он бы и не позволил себя обидеть. Обиду скорее проглотит Любушкин, чем Пашецкий, — в этом Марина была уверена…
Как-то Костя хотел подсмеяться над Пашецким. Все знали, что старик не переносит спиртного, и, когда после закрытия ресторана все садились ужинать, он наливал себе бокал минеральной воды и, подражая заправским пьяницам, осушал его в два глотка. Притом громко щелкал пальцами и говорил: «Хороша, чертовски хороша!»
В тот вечер старик на минуту запоздал к столу, и Костя втайне от всех поставил возле него нарзанную бутылку, наполненную водкой. Пашецкий ничего не заметил. Налил полный бокал, приподнял его, кивнул Марине и так же, как всегда пил минеральную, выпил водку почти до дна. Но сейчас он не щелкнул пальцами и ничего не сказал. На несколько мгновений закрыл руками лицо, а когда отнял их, все увидели, как по его лицу разлилась меловая бледность. Старик не проронил ни одного слова. Долго сидел молча, точно прислушиваясь к наступившей тишине. И вдруг раздался Костин голос: