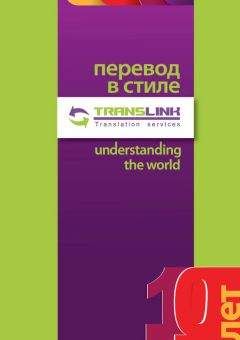Гитлер категорически запретил отступление из Сталинграда, прорыв на запад. Командующий военно-воздушными силами рейхсмаршал Герман Геринг заверил его, что сможет бесперебойно снабжать окруженных боеприпасами, горючим, провиантом. Это заверение оказалось невыполнимым. Провалилась и попытка фельдмаршала Манштейна деблокировать армию Паулюса — ее солдаты и офицеры мерзли в окопах и подвалах разрушенных сталинградских домов, голодали, гибли тысячами в бесплодных, бесперспективных боях.
За полтора года изнурительной, невиданной по жестокости войны, которую гитлеровские теоретики назвали «тотальной», то есть всеобщей, всеобъемлющей, Юрген Раух повидал много страшных картин, попривык ко всяким неожиданностям, но то, что произошло в Сталинграде, потрясло его. После прошлогоднего отступления от Москвы и Ростова армии вермахта стали как будто вновь набирать силу, дошли до Кавказа, водрузили имперский флаг на вершине Эльбруса, и вдруг, когда фюрер уже оповестил весь мир, что Сталинград взят, противник на Волге разгромлен, вдруг этот «разгромленный» противник окружает его лучшую, многочисленную, отлично вооруженную армию, отрезает ей все пути отхода, обрекает триста тридцать тысяч немецких солдат и офицеров на неизбежное поражение, громит и рассеивает по заснеженным степям две румынские армии, прикрывавшие фланги Паулюса, железной стеной встает на пути прославленного фельдмаршала Манштейна, обращает вспять итальянскую и венгерскую армии, прибывшие сюда по велению верных гитлеровских вассалов Муссолини и Хорти.
Предчувствие неотвратимого краха и неизбежного возмездия за все, что натворили армии Гитлера на захваченной ими русской земле, с особой силой охватило Рауха, когда он однажды вечером возвращался на бронеавтомобиле в пылающий Сталинград из 51-го армейского корпуса, от генерала фон Зейдлица, которого знал давно и любил за его смелость, решительность, нетерпимость к угодничеству.
Слева и справа от дороги чернели остовы разбитых немецких танков и автомашин, валялись в сугробах окоченевшие трупы, и над ними с карканьем кружились вороны. Затянутое тучами, низкое, сумеречное небо, казалось, готово было упасть на землю. В серой его толще непрерывно вспыхивали зловещие огненные прочерки, похожие на хвосты комет.
С тоской всматриваясь во все это, Раух вспоминал ошеломительно резкие высказывания генерала:
— Меня не удивляет неврастеничный ефрейтор, возомнивший себя полководцем. Ждать от него грамотных решений нельзя. Удивление и возмущение вызывают его верноподданные военные советники. Я имею в виду Гальдера, Цейтцлера, наконец, барона Вейхса, Манштейна… Почему они не настояли на отводе шестой армии из Сталинграда, когда это было еще возможно? — Генерал прошелся по блиндажу, закинув за спину руки, и продолжал с горечью: — Сталинградские подвалы забиты ранеными. Врачи не в состоянии оказать им помощь. Раненые заживо гниют… А вчера я случайно увидел, как мои солдаты пристрелили старую, худую собаку, ободрали ее и ели сырое собачье мясо. Ради чего так страдают люди?
— Все гнусно и подло, — мрачно обронил присутствовавший при этом начальник штаба корпуса, молчаливый полковник Клаузиус.
С ужасом слушал Юрген Раух этих двух заслуженных, уже немолодых людей, увенчанных многими наградами: их слова подтверждали его мысли.
— Вам не доводилось откровенно поделиться своими впечатлениями с командующим армией? — поинтересовался Раух, обращаясь к генералу.
Сардоническая гримаса скользнула по лицу Зейдлица.
— Я не только устно, а и письменно ему докладывал, что приказ Гитлера — удержать Сталинград — невыполним. Однако господин начальник штаба армии генерал Шмидт изволил начертать на первой странице моего доклада: «Мы не должны ломать себе голову за фюрера, а генерал фон Зейдлиц — за командующего армией». Этим и закончилась моя попытка предотвратить крах.
— Что касается лично меня, то решение уже принято, — неожиданно сказал Клаузиус.
Зейдлиц недоуменно глянул на полковника:
— Какое решение?
— Дело идет к концу, господин генерал, — вздохнул Клаузиус. — Финал сталинградской трагедии — уже у порога нашего блиндажа. Плена я не выдержу, а потому твердо решил покинуть корпус и в одиночку прорываться из западни.
Генерал Зейдлиц подошел к нему вплотную, спросил строго, но без резкости:
— То есть вы, Клаузиус, избрали закамуфлированную, так сказать, форму самоубийства? Я вас правильно понял?
— Да, генерал, — спокойно ответил Клаузиус, — вы меня поняли совершенно правильно. К сожалению, ничего лучшего я не нахожу…
…Весь этот разговор в генеральском блиндаже не оставил у Юргена Рауха никаких сомнений в том, что 6-я армия, гордость германского вермахта, агонизирует.
Оставив автомобиль у разрушенной стены пятиэтажного кирпичного дома, он побрел по еле заметной тропинке среди руин. Вокруг все пылало. Над истерзанным городом висела мутно-багровая пелена. В этот переходный от вечера к ночи час почти не было слышно выстрелов, как будто окружившие 6-ю армию советские войска уже не желали тратить снаряды и патроны на обреченное скопище немецких солдат.
Густо падал снег. Между черными развалинами домов росли сугробы, прикрывая оледеневшие трупы, сложенные штабелями вдоль развороченных стен. За последнюю неделю убитых и умерших от сыпного тифа или дизентерии перестали даже складывать в такие вот штабеля: не поспевали. Поэтому трупы валялись везде. Сталинград с каждым днем все больше превращался в гигантское немецкое кладбище без надгробий и могильных холмов…
В тесном сыром подвале, где нашли себе убежище трое офицеров оперативного отдела армии, приютившие Юргена Рауха, раньше держали уголь. Еще и теперь, когда пронимал мороз, операторы становились на четвереньки и принимались скрести по углам подвала угольную пыль. После этого разжигали железную печурку, все собирались вокруг нее, протягивая к огню перепачканные углем руки.
В таком унылом положении и застал их Юрген Раух по возвращении из 51-го армейского корпуса. Примостившись рядом с ними, спросил:
— Что нового?
Тщедушный, похожий на сову гауптман Штейнбреннер сверкнул стеклами огромных роговых очков.
— Все то же. Сегодня после полудня на площади расстреляны две группы солдат с фельдфебелями и двумя офицерами.
— За что? — равнодушно спросил Раух.
— История обычная, — ответил Штейнбреннер, — одна группа из семнадцати человек во главе с офицерами, занимавшая оборону возле тракторного завода, самовольно отошла под натиском русских. Причем оба офицера подстрекали солдат сдаться в плен, раздавали им русские листовки, ругали фюрера. Ну, а вторая группа нашла в развалинах сброшенный самолетом мешок с консервами и утаила свою находку. Вот начальник штаба и решил разделаться с ними для поддержания дисциплины.
Не снимая сапог, с головой укутавшись шинелью, Юрген Раух долго ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть. Тяжелым молотом стучало у него в мозгу: «Кончена жизнь. Кончена жизнь. И все неправда. Все не то. И жизнь — неправда. И жена моя — неправда. И дорога, которой я шел, — сплошная неправда. А что же правда? Где правда? Где выход? Выход один — смерть…» Под утро он забылся в чутком полусне: ему пригрезилось, будто сидит он, застенчивый подросток, на берегу огнищанского пруда, исподлобья любуется смуглой черноглазой Ганей, хочет сказать ей о своей любви, но не может произнести ни одного слова, а она призывно улыбается, и рот у нее алый, зубы ровные, белые. И вот она встает и уходит все дальше и дальше, а он тянется за ней и не может подняться, словно прирос к земле, неласковой, твердой, холодной как лед…
Разбудил Рауха оглушительный грохот артиллерии. Все вокруг гудело. Содрогаясь от непрерывных взрывов, утробно стонала земля. Казалось, все силы ада сошлись в кошмарном карнавале, чтобы в свисте и адской пляске отпеть тех, кто оказался среди мрачных руин Сталинграда, страшного города, из которого уйти не дано. Через полчаса артналет прекратился, наступила странная, пугающая тишина.
— Заспались, Раух! — кричал длинный обер-лейтенант Эрлингер. — А я успел побывать на аэродроме и еле ноги оттуда унес. Там уже русские танки. За каких-нибудь пятнадцать минут они раздавили, вмяли в землю все капониры и блиндажи вместе с охраной аэродрома.
И тут же в подвал, скатился бледный майор Тенгельманн. Опершись ладонью о край сколоченного из досок стола, он сообщил каким-то необычным для него вибрирующим голосом:
— Господа! Русские прислали нам ультиматум. Вот он, можете посмотреть. Мне дали его переписать.
Вынув из папки сложенный вчетверо лист бумаги, Тенгельманн протянул его Рауху. Юрген Раух стал читать ультиматум вслух, запинаясь от охватившего его волнения: