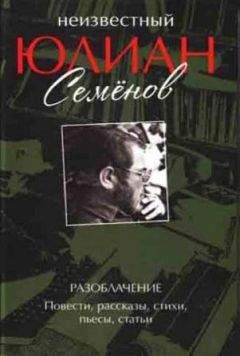ВЫШИНСКИЙ. Продолжайте, Бессонов...
БЕССОНОВ. В конце мая тридцать первого года с рекомендательным письмом Пятакова я разыскал Седова и имел с ним короткий разговор. Затем я передал ему письмо Пятакова. И первые деньги, которые Пятаков передал для Троцкого.
ВЫШИНСКИЙ. Какие деньги?
БЕССОНОВ. Он дал мне две тысячи марок для Седова с целью организации переотправки писем...
ШАХТ. Я, Ялмар Шахт, президент банка, финансовый бог Гитлера, судимый в Нюрнберге и оправданный, посаженный затем аденауэровскими лизоблюдами, свидетельствую: в тридцать первом году, в период инфляции и падения курса марки, две тысячи могло хватить на приобретение четверти спички. Не коробка, а именно спички! В Германии тогда получали миллиардные зарплаты, поскольку обед стоил сто миллионов...
ПЯТАКОВ. Я, Пятаков Юрий Леонидович, расстрелянный год назад, возмущен ходом ведения этого процесса! То, во имя чего я положил свою жизнь, согласившись оклеветать себя в спектакле под названием «Процесс-37» — во время разгрома троцкизма, — на грани провала! Даже Ялмар Шахт хватает обвиняемого Бессонова за руку! Он врет, как мелюзга! Товарищ Вышинский, неужели вы забыли, что я показывал год назад в этом зале?! Вспомните, как я говорил — по сценарию, утвержденному Иосифом Виссарионовичем, что мой первый контакт с Седовым организовал Иван Никитович Смирнов в середине лета тридцать первого года! Летом, а не в мае! Да, верно, после моего расстрела Троцкий доказал, что Седова не было летом в Берлине, и вы поэтому заставляете Бессонова рассказывать о майской встрече! Но ведь любопытные поднимут наш процесс! А там Шестов показывает, что Седов вообще передавал для меня не письма, а ботинки — в ресторане «Балтимор». Поставил на стол два ботинка, в подошвах которых были письма Троцкого... Помните, как я просил вас, товарищ Вышинский: «Уберите этот эпизод у Шестова! Смешно! Какой конспиратор ставит на стол в ресторане ботинки с секретными письмами Троцкого?!» А знаете, что он мне ответил, товарищ Ульрих? Не знаете? Правда, не знаете? Он засмеялся: «На дураков рассчитано, дураки и не это проглотят!» Но ведь у дураков рождаются дети! И совершенно не обязательно, что дети дураков будут дураками! Разве можно так пошло пакостить делу борьбы с троцкизмом, товарищи?!
ВЫШИНСКИЙ. Продолжайте, Бессонов...
БЕССОНОВ. Когда Крестинский поздним летом тридцать третьего года приехал лечиться в Германию, он имел со мной разговор... Первый разговор касался условий свидания Троцкого с Крестинским...
ВЫШИНСКИЙ Кто желал этого свидания? Троцкий или Крестинский?
БЕССОНОВ. Крестинский.
ВЫШИНСКИЙ. Крестинский, вы с Бессоновым виделись?
КРЕСТИНСКИЙ. Да.
ВЫШИНСКИЙ. Разговаривали?
КРЕСТИНСКИЙ. Да.
ВЫШИНСКИЙ. О чем? О погоде?
Гомерический хохот всего зала, овации. Вышинский галантно кланяется, протирая очки.
КРЕСТИНСКИЙ. Он был поверенным в делах в Германии... Информировал меня о положении в стране, о настроениях в фашистской партии, которая в то время была у власти...
ВЫШИНСКИЙ. А о троцкистских делах?
КРЕСТИНСКИЙ. Я троцкистом не был.
ВЫШИНСКИЙ. Значит, Бессонов говорит неправду, а вы — правду? Вы всегда говорите правду?
КРЕСТИНСКИЙ. Нет.
ВЫШИНСКИЙ. Следовательно, Бессонов говорит неправду?
КРЕСТИНСКИЙ. Да.
ВЫШИНСКИЙ. Но вы тоже не всегда говорите правду. Верно?
КРЕСТИНСКИЙ. Не всегда говорил правду... во время следствия...
ВЫШИНСКИЙ. А в другое время говорите правду?
КРЕСТИНСКИЙ. Да.
ВЫШИНСКИЙ. Почему же такое неуважение к следствию? Говорите неправду следствию... Объясните... Хм... Ответов не слышу. Вопросов не имею...
Крестинский выходит на просцениум, обходя Вышинского, дружески кладет ему руку на плечо, тот также дружески улыбается, провожая его взглядом.
КРЕСТИНСКИЙ. Товарищи, герой революционных боев подсудимый Раковский старше меня по возрасту, но по времени пребывания в рядах ленинской гвардии — я здесь ветеран, вступил в российскую социал-демократию в девятьсот первом году, начал мальчишкой, кончал секретарем ЦК... Подполье, аресты, допросы царской охранки приучили меня к точности поступков и конкретике всеотрицающих фраз... После ареста меня спросили, хочу ли я быть расстрелянным без суда, — показаний против меня хватает, — желаю ли я воочию видеть смерть семьи, родных, друзей, или же предпочитаю помочь партии в борьбе против троцкизма... Я выбрал последнее, решив, что по прошествии многих месяцев, когда расположу к себе ежовских следователей, того же Вышинского, — как всякий меньшевик, он обожает рисовку, позу, многоречие, словесный понос, — я передам письмо Ежову: «Лично для тов. Сталина И.В.». И в этом письме предложу игру в отказ от признаний: «Как заместитель наркома иностранных дел, я читал все отклики на два первых процесса, Иосиф Виссарионович... Поверьте, мы подставляемся! Ягода сослужил нам, ленинцам, борцам против троцкизма, злую шутку, когда обвиняемые, все как один, обливали себя дерьмом — это противоестественно... Это Византия, инквизиция, аутодафе... Если я откажусь на первом заседании от показаний, Троцкий начнет кричать о победе справедливости, о том, что «Крестинский нашел в себе мужество плюнуть в лицо палачам!» А потом, после допросов Бессонова, которому можно верить, как себе, — ведь он получит орден за свою роль, как мне говорили, — после обличений Раковского — он известен всему миру как борец, хоть и троцкист, — я раскаюсь и возьму на себя всё... Поверьте, Иосиф Виссарионович, опыт дипломатической работы говорит мне: именно это будет истинной победой!» Вот каков был мой замысел, когда я подписывал идиотские показания, сочиненные безграмотными следователями... Прочитав письмо, ко мне пришел Ежов. Он был в ярости: «Ты мне эти штучки брось, Николай Николаевич! Мы ж с тобой выучили весь текст! Нет времени заставлять Бессонова и Раковского переучивать свои показания! Да и Бухарин может взбрыкнуть!» — «Допрашивай Бухарина после моего сознания, — бросил я мой главный козырь. — Но если мое письмо Кобе не передашь — пеняй на себя». И я выиграл, получив — единственным изо всех обвиняемых — право отказаться от показаний, данных палачам под пыткой. Я — первый и единственный, кто породил сомнение в процессе... А дальше — это будет через пять минут — Бессонов произнесет строки, которые ему вписали под мою диктовку: «Я, как советник полпредства в Берлине, должен был по заданию Крестинского не допустить нормализации отношений между Советским Союзом и Германией на обычном дипломатическом уровне... » Понимаете? Нет? Но ведь речь шла об отношениях с Гитлером! Сталин требовал налаживать отношения с чудовищем, это антигуманно... А еще через два дня я признаюсь в том, что Бессонов организовал мне встречу с Троцким в Мерано... Но ведь это итальянский курорт! Троцкий был бы немедленно схвачен в фашистской Италии, как «враг нации»... Об этом сейчас молчат, но после того как фашизм и национальный социализм рухнут, раздавив под своими обломками немцев и итальянцев, всплывут архивы, потомки увидят мое алиби и назовут Сталина так, как его и надлежит называть: «враг народа, изменник ленинизма, губитель партии большевиков»... Не сердитесь за то, что я обманул вас. Я это сделал во имя ваших детей. Простите меня, товарищи... В конечном случае это ложь во спасение...
ВЫШИНСКИЙ. Подсудимый Гринько, расскажите суду о своей преступной деятельности...
ГРИНЬКО. Чтобы ясен был путь моих преступлений и измен, вы должны помнить, что я вступил в компартию в составе боротьбистов — украинской националистической организации...
ЦЕТКИН. Я, Клара Цеткин, председатель Германской компартии и президент рейхстага, должна заявить следующее: орган заграничного бюро украинской социал-демократии «Боротьба» начал выходить в Женеве, в пятнадцатом году, и сразу же занял интернационалистскую политику... В декабре шестнадцатого года большинство боротьбистов влились в ленинскую партию, среди них и товарищ Гринько — настоящий, убежденный большевик, гордость Украины.
ГРИНЬКО. В тридцать третьем году я, будучи членом ЦК и народным комиссаром финансов, связался с фашистами. Подробные показания я дам в закрытом заседании...
На просцениум выходят н е с к о л ь к о ч е л о в е к — мужчин и женщин, в полосатых бушлатах узников гитлеровских концлагерей, с красными звездами на спине и груди.
ПЕРВЫЙ. Я, член Центрального Комитета Коммунистической партии Германии Фриц Зейферт, свидетельствую: после побега из концлагеря Зитинген в тридцать пятом году я перешел чехословацкую границу и оттуда добрался до Москвы. Работал в Коминтерне. В тридцать шестом году был арестован, подвергнут пыткам, ибо отказался «сотрудничать со следствием». Что такое «сотрудничество»? Это когда тебе говорят, что ты должен признаться в шпионстве и дать показания, что по заданию гестапо следил за Пятаковым, когда тот был в Берлине в тридцать первом году и самолично видел, как он встречался с сыном Троцкого — Львом Седовым. Я объяснил следователю, что в тридцать первом году еще не было гестапо. Он сказал мне, что я клевещу на честных людей, утверждавших этот факт, и показал мне три протокола допроса. Он не убедил меня, отправил в карцер, а после этого другой следователь предложил признаться в том же, но — по отношению к Крестинскому, уже в тридцать третьем году. Я ответил, что и на это не могу пойти — при всем моем желании помочь следствию — сидел в гитлеровском концлагере. Что было потом, я не хочу вспоминать. Через год мне дали двадцать пять лет каторжных лагерей и десять лет поражения в правах... Смешно, как можно «поражать» в правах, если я не являюсь гражданином Советского Союза? В сороковом году, в сентябре, всех нас, германских коммунистов, вывезли из концлагерей и привезли в Бутырки. Нас переодели в костюмы, дали сорочки, полуботинки и галстуки, посадили на «доп» — дополнительное питание... Я спросил одного из работников НКВД, что все это значит? Он ответил: «Вас отсюда отвезут на закрытое судебное заседание» в другой город... На закрытом заседании вы скажете всю правду о том, как над вами издевались садисты врагов народа Ягоды и Ежова... И — отпустят». Я заплакал от ощущения победившей правды. Заплакал — впервые в жизни... Нас действительно погрузили в Столыпинку и через день выгрузили... Это был Брест. Нас повели вдоль железнодорожной колеи — «на закрытое заседание, где надо сказать всю правду». Возле полосатого столба стоял наряд гестапо. Штурмбаннфюрер приветствовал начальника нашего конвоя возгласом «хайль Гитлер» — «да здравствует Гитлер». Начальник конвоя — мне показалось — хотел крикнуть в ответ «да здравствует Сталин». Но он не крикнул, он молча поклонился гестаповцу, обменялся с ним рукопожатием и передал нас, как стадо, нашим врагам... Все мы были отправлены в концлагерь Маутхаузен; гестаповцы смеялись над нами, отправляя в болота: «А, наши дорогие агенты! Товарищ Сталин сказал, что вы сами попросились на родину. Работайте, дорогие друзья, во благо Рейха, пока не сдохнете. Жизни вам отпущено по семь месяцев каждому, потом — в печку, так что наслаждайтесь пока и благодарите за вашу счастливую жизнь фюрера богоизбранной нации немцев, единственной правопреемнице Рима, нации, не разжиженной чужой кровью, расе традиций, почвы и корней!» Вот так, товарищи зрители... Среди вас нет госпожи Нины Андреевой, которая так печалится о забвении всего хорошего, что было во время великого Сталина? А то — пусть поднимается... Подискутируем... У нас в Германии — после нашей гибели и краха нацизма, —до сих пор живут и бывшие члены партии, и молодые парни в черных рубашечках, которые обожают Гитлера: «при нем был порядок!» У вас их называют «неонацистами», очень хулят... Но они лишены возможности захватить власть, потому как все немцы помнят, что пришло следом за крахом Гитлера, утверждавшего, что мы — богоизбранный народ традиций, корней и почвы... Сильная демократия сможет сдержать неонацизм... А у вас? Сможете сдержать «неосталинистов»? Или страх как хочется бить поясные поклоны новому царю-батюшке? Чтоб Слово было законом? Чтоб не думать, а слепо исполнять приказы нового фюрера... вождя? Кстати, нас в Москве, немецких коммунистов, до начала сталинского контрреволюционного термидора было полторы тысячи человек. Тысяча товарищей была расстреляна и замучена в сталинских застенках... А нас, четыреста семьдесят один человек, передали в гестапо, чтобы Гитлер добил тех, кого не добил Сталин... Давайте, защитники Сталина! Поднимайтесь на сцену! Отстаивайте свою точку зрения! Защищайте вашего кумира! — товарищ Фриц задирает бушлат, все его тело в шрамах. — Это, кстати, со мною сделали ваши люди! Под портретом господина с трубкой! Неужели у вас перевелись защитники Сталина?