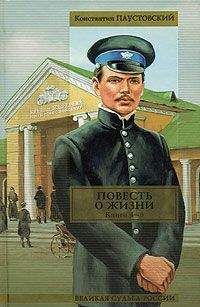круглый стол, покрытый вязаной скатертью, и расшатанные венские стулья. Все рассаживались на стульях вокруг стола. Один только Абраша сидел с убитым видом несколько в стороне, как подсудимый.
Суд начинался не сразу. Ждали раввина. Пока же все молчали, с укором поглядывая на Абрашу.
На суд Абраша всегда являлся в растерзанном виде — в рубашке без воротничка, подтяжках и расшнурованных ботинках. Может быть, он хотел вызвать этим жалость, а может быть, этот вид выражал, по мнению Абраши, раскаяние и заменял древний обычай посыпать голову пеплом.
Потом приходил добродушный старый раввин, сморкался на весь двор, садился в мягкое кресло, долго вытирал клетчатым платком бороду, говорил: «Опять начинаются фигли-мигли», — и происходило разбирательство. Велось оно по-еврейски, но это обстоятельство нисколько не мешало многочисленным русским зрителям переживать все перипетии семейной драмы.
Все кончалось примирением. Раввина уводили угощать в квартиру, и на некоторое время устанавливалась тишина.
* * *
Работы на заводе Нев-Вильдэ было немного. Я рано возвращался домой, много писал и читал.
Я записался в городскую библиотеку. Там в отдельных шкафах стояли книги, подаренные Чеховым. Их на руки не выдавали, но иногда показывали читателям.
Это были книги полузабытых писателей — Потапенки, Щеглова, Эртеля, Измайлова, Баранцевича, Муйжеля, с авторскими автографами или с дарственными надписями Чехова — тонкими, без нажима, похожими на докторские рецепты.
Жизнь шла так спокойно, что я установил в ней даже некоторый твердый порядок. Писал я дома, читать же уходил в порт, на один из разоруженных корветов, чаще всего на «Запорожец».
Я сдружился со сторожем, и он пускал меня на корвет в любое время. Иногда в теплые ночи я даже оставался ночевать на «Запорожце».
Я брал шлюпку у лодочника Лагунова, подплывал к корвету, привязывал шлюпку к отвесному железному трапу и подымался по этому трапу на высокую палубу.
Я привозил с собой немного еды, а чай мы кипятили вместе со сторожем.
Мне казалось, а может быть, это было и действительно так, что я здоровею от солнца и легкого голода — я его испытывал тогда все время.
Я читал подряд и выучивал наизусть всех поэтов, книги которых брал в библиотеке.
Меня покоряла музыка стихов. Только в стихах раскрывалось до предела певучее богатство русского языка.
В стихах слова звучали как бы наново, как бы только что найденные и сказанные впервые. Я бывал потрясен их точностью, выразительной силой и блеском.
Я мог без конца повторять отдельные любимые строфы. Каждый день они менялись. Одна строфа уступала место другой.
То я вспоминал Лермонтова: «Немая степь синеет, и венцом серебряным Кавказ ее объемлет»; то пушкинские слова о том, что «каждый день уносит частицу бытия», то тютчевский весенний гром, напоминающий о том, как «ветреная Геба, кормя Зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила», то фетовскую весну: «Из царства льдов, из царства вьюг и снега как свеж и чист твой вылетает май».
Я был окружен толпой поэтов. Я беседовал с ними. У меня кружилась голова от множества их мыслей и образов, литых и драгоценных. Откуда все это бралось, из каких глубин ясной и горячей души!
Я чувствовал себя владетелем богатств. Со мной говорили Леконт де Лиль и Гейне, Верхарн и Бернс. И при этом они говорили мне все лучшее, что они могли сказать. Разве это не было счастьем? Меня удивляли тогда еще, в молодости, и удивляют сейчас люди, которые не понимают или не замечают этого.
Я был твердо уверен, что иностранные поэты лучше звучат в русских переводах, чем на своем родном языке.
Особенно мне запомнились тогда стихи Эредиа. Они подходили к Азовскому побережью с его обрывистыми мысами, степями и ощущением древности. Многие стихи Эредиа я знал наизусть.
Мне трудно удержаться, чтобы не повторить их сейчас:
Разрушен древний храм на мысе под обрывом. Перемешала смерть в рудой земле пустынь Героев бронзовых и мраморных богинь, Покоя славу их в кустарнике дремливом…
И рядом звучал почти забытый Мей. «Феб златокудрый закинул свой щит златокованый в море, и растекалась на мраморе вешним румянцем заря». И тут же пели широкие и светлые, как дыхание утра, строки Александра Блока:
О, весна без конца и без краю — Без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!
Стихи были для меня такой же реальностью, как хлеб, работа на заводе, как солнце и воздух. Они заставляли меня жить в постоянном напряжении, в неожиданном и разнообразном мире. Они несли меня, как пенистый поток несет оторванную от дерева ветку. Я не мог сопротивляться им.
Все окружающее я видел сквозь прозрачное вещество стихов. Сначала мне казалось, что это окружающее приобретало иной раз от прикосновения поэзии то содержание, какого в нем и не было, приобретало преувеличенный блеск.
Но это было не так. Ни тогда, ни сейчас я ни на минуту не жалею о своей юношеской одержимости поэзией. Потому что знаю, что поэзия — это жизнь, доведенная до полного выражения, раскрытие мира во всей его глубине, трудно охватываемой нашим ленивым взглядом.
В Таганроге я впервые жил около моря не как гость. Впечатления не проскальзывали, а откладывались и крепли. И потому особенно я любил стихи, наполненные своеобразием приморской жизни. Я проверял их на всех явлениях, происходивших вокруг.
Я часто выезжал на шлюпке далеко в море, обычно к вечеру, после работы. Садилось солнце. Я останавливал шлюпку. С весел падали капли.
Зрелище заката вызывало в памяти слова: «Солнца диск золотой, уходя из лазурной пустыни, погружается медленно в светлое лоно зыбей…»
Меня удивляла точность этих слов. Действительно, золотой диск солнца уходил из пустыни неба и медленно погружался в легкую морскую зыбь. В этих словах не было ничего выспреннего, нарочитого, но в них вместе с тем заключалась широкая торжественность. Я никак не мог найти то мгновение, когда она возникла в этих стихах и дальше уже лилась свободно и сильно.
Я любил маленькие пароходные конторы в порту, сизые от табачного дыма, с расписаниями по стенам. Служащие этих контор были большей частью греки. Невольно я переносил на