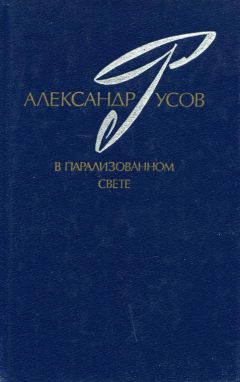Такой, да не совсем.
Это верно. Тункан — интеллигент з а г н и в а ю щ и й.
А ты?
Само собой.
Вы ведь вместе смотрели тот фильм?
Как же он назывался?
Кажется, из дореволюционной жизни.
Или из времен гражданской войны.
Да, пожалуй.
И там, в этом фильме, хочу я сказать, кто-то произносит вроде такие слова: «Мы — загнивающая интеллигенция».
Или: «Я принадлежу к той части загнивающей…»
Вот вам и запомнилось. Понравилось. Прилипло.
Скорее, было просто присвоено и теперь как бы объединяло. Иной раз ни для чего иного, кроме как для возбуждения разговора:
— Ну что, Загнивающий?
А ничего, отвечаешь, что делать-то будем? Может, в картишки перекинемся?
И перекидывались, пока его родители с работы не возвращались.
Потом Тункан садился за фоно и играл. Что-нибудь специально для тебя. Душещипательное.
Например, «Мурку», которую, кстати, он играл гораздо хуже, чем Бетховена или Чайковского, хотя считается, что «Мурку» играть проще.
Затем опять смотрели марки. Снова перекидывались в подкидного.
До чего же азартный ты был, Телелюев, сукин ты сын! Особенно до пятнадцати лет. Тебе тогда Тункан предложил в карты на марки играть. Или это ты ему предложил? Твои завидущие глаза при виде его альбомов так и разбегались. Вот и пошел ты играть. И пошел, и пошел… Как какой-нибудь разудалый купчик, остановившийся в одном из нумеров Индириной квартиры. И ведь до тех пор играл, пока в висках не застучало. Пока не проиграл все, до последней марки. Тункан тебе, правда, простил. С тех пор ты в азартные игры больше не играешь. Спасибо Тункану. Может, от какой большой беды в жизни спас.
— А не пойти ли нам, Загнивающий, погулять?
Тункан же только тронет ладошкой свои и без того гладкие, сальные, тоже на косой пробор причесанные, будто слипшееся вороново крыло, волосы, вскинет угреватый свой красный паяльник…
У него, между прочим, все в нос уходило. Как у Индиры — в лоб. Гормоны тоже, видать, покоя ему не давали, но вот что характерно, как сказал бы Вахлак Зашивающий Сандалию: сексуальных тем вы с ним не касались, будто они находились вне сферы высоких ваших интересов. Ибо интересы ваши были исключительно интеллигентными, интеллектуальными, а сами вы — з а г н и в а ю щ и м и. Тем более Индиру никогда не обсуждали вы с этой стороны, будто она и не училась с вами в одном классе.
Ты вообще ни с кем не говорил об Индире, даже с родной матерью. В этой глухой зоне молчания, где протекала вся интимная сторона твоей жизни, Индира занимала, конечно, особое место. Ни себе, ни другим не позволял ты ее о б с у ж д а т ь, потому что, согласись, обсуждать храм, предназначенный лишь для молитв, подвергать холодному суду вместилище всех идеалов, мечтаний, тайных устремлений не только глупо, но и кощунственно. Индира, таким образом, оказалась вне обсуждений, вне какой-либо критики. Так возник культ личности Индиры, укрепился в своем значении Недосягаемо Чистый Образ. И если позже ты чувствовал или понимал, что недостаточно любишь ее, порой даже совсем не любишь — в этом была конечно же твоя вина, беда, но никак не следствие ее недостатков.
Со своими очень с т а р ы м и и очень и н т е л л и г е н т н ы м и родителями Тункан Загнивающий жил в фундаментальном доме с эркерами на углу улицы Станиславского и того переулка, что вел к небольшому, стоявшему как бы на островке рядом с Брюсовской церковью особнячку с палисадником, где обитал Мальчик С Тройной Фамилией, оставленный на второй год из-за двойки по географии. Небольшого роста, совсем седой отец Тункана — авиационный инженер, и его стройная, высокая, с гладко зачесанными на прямой пробор волосами мать, преподавательница музыки, поддерживали у себя в доме тихую, спокойную, доброжелательную атмосферу.
Сколько же им было тогда лет, с т а р ы м родителям Тункана?
Сорок пять? Чуть меньше?
Взгляни на себя в зеркало, исследователь. Они выглядели старше, чем ты?
Того палисадника, где Мальчик С Тройной Фамилией наблюдал по ночам за звездным небом в подзорную трубу, и того одноэтажного дома-островка, где вы со Второгодником По Географии изучали двухтомную «Историю нравов» Фукса, больше не существует. Мальчик Второгодник полысел, стал доктором наук, но ничуть не переменился: даже сросшиеся на правой руке пальцы не разошлись. Вы листали «Историю нравов» в его особенно уютной при искусственном свете квартире, состоящей из нескольких комнат. Кроме самого Мальчика в доме жила еще полная, молчаливая бабушка-армянка с каменным, как бы навсегда застывшим лицом, а мама с третьим или четвертым папой Мальчика жила в другом городе: то ли в Петрозаводске, то ли в Будапеште. Во всяком случае, после окончания школы Мальчик ездил к ней в Будапешт и отзывался об этом городе восторженно, а ты думал тогда, что он просто хвастает и нарочно преувеличивает, ибо представлял себе Будапешт глухой провинцией, где пишут плохие книги, которые ты безуспешно пытался заставить себя прочитать, и снимают скучные фильмы, которые иногда показывали в Москве. Вы с Мальчиком садились рядышком, клали на колени один из двух тяжеленных, в настоящем зеленом кожаном переплете томов Фукса и медленно перелистывали, бережно переворачивая страницы с золотым обрезом и задерживаясь на рисунках с изображениями всевозможных конструкций поясов невинности разных времен, стран и народов, — поясов, снабженных хитроумными крючками, защелками, замками и ключиками, — а также на старомодных гравюрах типа «Апофеоз студенческой жизни», где на кровати в алькове резвились два почти не прикрытых газом и кружевами XVIII столетия разнополых, исполненных картинно-неестественной грациозности существа, весьма отдаленно напоминающих галантные фигуры картин Фрагонара, Буше и Ватто.
Так вот, в том доме возле небольшой старинной церкви, где тебя, уже обреченного, уже смертельно обожженного мальчика, тайком крестила твоя семидесятилетняя няня, благодаря чему, быть может, ты только и остался жив, ты мысленно примерял к Индире один из этих ритуальных поясов невинности, замыкал на ключик, сам же осторожно, нежно и трепетно снимал его, и эта деликатная процедура тоже, возможно, оказалась одной из причин, которые привели тебя однажды на болото к Голубой Ведьме. Рассматривание «Истории нравов» перемежалось прослушиванием арий из опер — ими куда больше, чем Фуксом, был увлечен в ту нору этот черноглазый, круглоголовый полуармянский мальчик, столь сильный в астрономии и совершенно беспомощный в географии.
Лапа жил тоже неподалеку, в доме музыкантов, ближе к улице Горького, в том же Брюсовском переулке, и у него была миниатюрная, хорошенькая, похожая на фарфоровую статуэтку, просто очень даже красивая мама. А его отец, этакий Пьер Безухов: высокий, крупный, вальяжный мужчина в очках, — играл на каком-то смычковом инструменте в музыкальном театре.
На Тверском бульваре, во дворе под аркой, в полуподвальном этаже густонаселенного дома обитал Бубнила Кособока. Отец у него, как уже говорилось, был детским писателем, и как настоящий писатель, отец Бубнилы курил трубку — вернее, постоянно сжимал ее, погасшую, в левой руке. Он был маленького роста, широкоплечий, с пышной шевелюрой седеющих и потому как бы грязно-серых волос, в пестром пиджаке букле. Он писал свои книги простым карандашом, а на машинке его рукописи перепечатывала мать Бубнилы, с которой к тому времени, к 1956 году, я имею в виду, он, кажется, уже разошелся или вот-вот должен был разойтись. Чистую сторону испачканных, исчерканных отцом ненужных машинописных страниц Бубнила Кособока использовал в качестве черновиков и иногда делился с тобой. Склонив голову набок и закатив глаза, будто для молитвы, совсем как Бубнила Кособока при ответах у доски, отец-писатель, являясь в школу, всякий раз о чем-то долго и горячо спорил с учительницей литературы, а Лидия Александровна — полноватая, флегматичная, скучнейшим образом преподающая литературу учительница — вдруг оживлялась, возбуждалась и говорила энергично, как бы даже немного заискивающе:
— Ну что вы, ваш сын прекрасно… Замечательно… С глубоким пониманием… Первый ученик…
На что и без того похожий, но старающийся еще более походить на живого еще тогда писателя Эренбурга папаша Бубнилы, все никак не желая с этим согласиться, возражал:
— Мне кажется, Лидия Александровна, в последнее время он как-то ослабил… Занимается меньше… Совсем мало внимания уделяет…
И чем больше хвалебных эпитетов произносила учительница, тем чаще посасывал еще на прошлой неделе, возможно, погасшую трубку писатель Псевдоэренбург. Тут и ужу было ясно, что лишь ради удовольствия слышать подобные эпитеты и определения был затеян весь разговор.
Матери будущего крупного экономиста и политического деятеля Херувима, как и его таинственного отца, ты не видел ни разу. Он как бы тщательно скрывал их, никогда не приглашал приятелей к себе, в дом Арже. Была у него старшая сестра, кончавшая, кажется, еще во времена раздельного обучения женскую школу, а отец с ними вроде бы тоже не жил…