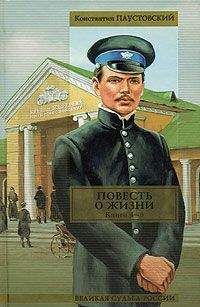по перрону, прижав к лицу край своего платка. Я вошел в вагон. Поезд тронулся.
Сырой февраль
В Москве прямо с вокзала я пошел в Союз городов. Первый человек, которого я там увидел, был Кедрин. Мы обрадовались друг другу и даже расцеловались. Кедрин, оказывается, приехал из Минска в командировку. Я сказал ему, что хочу вернуться в отряд.
— Это дело тонкое, — ответил он. — Его надо выяснить.
Он ушел выяснять и долго не возвращался. А возвратившись, таинственно сказал, что ничего с отрядом не получится. Настроение в армии неустойчивое, время тревожное, и лучше сейчас не соваться на фронт. Таково мнение руководителей Союза городов.
Я был обескуражен.
Кедрин снял очки, протер их, снова надел и внимательно меня осмотрел. Проделав все это, он сказал:
— Не унывайте. Работа найдется. Вы недурно пишете. Романин показывал мне ваш очерк «Синие шинели». У вас есть перо.
Он написал мне рекомендательное письмо к своему знакомому в редакцию одной из московских газет.
В редакции меня принял лысый человек с лицом старого актера. Он писал в пыльной комнате за столом, заваленным ворохом гранок.
Против него в мягком кресле сидел около стола низенький плотный человек с хитрым веселым глазом, сивыми запорожскими усами, в серой поддевке и мерлушковой папахе. Он был очень похож на Тараса Бульбу.
Лысый прочел письмо Кедрина, сказал: «Жив еще курилка! Погодите минуту», — засунул письмо под кучу гранок и снова начал писать.
Тарас Бульба вынул из кармана поддевки серебряную табакерку, подмигнул на лысого, щелкнул по табакерке пальцем, открыл ее и протянул мне:
— Угощайтесь! Табакерочку эту подарил мне собственноручно генерал Скобелев после Плевны.
Я поблагодарил и отказался. Тарас Бульба ловко насыпал нюхательного табаку на ноготь большого пальца, втянул табак ноздрей и оглушительно чихнул. Запахло сушеными вишнями. Лысый не обратил на Тараса Бульбу никакого внимания.
Тарас Бульба снова по-заговорщицки подмигнул на лысого, взял со стола подкову — ею пользовались, как тяжестью, чтобы прижимать гранки, — и легко разогнул ее в прямую полосу.
Тогда лысый поднял глаза.
— Старые штучки! — сказал он. — Меня вы этим не купите. Война — никаких авансов!
— Вас ждут. — Тарас Бульба показал лысому на меня. — Я только хотел напомнить вам таким образом об этом обстоятельстве. И ничего больше.
— Ну что ж, — сказал лениво лысый и взглянул на меня. — Попробуем. Расскажите нам, что вы из себя представляете. Кстати, меня зовут Михаил Александрович. А это, — он показал на Тараса Бульбу, — король московских репортеров, поэт, бывший борец и актер, знаток московских трущоб, закадычный друг Чехова и Куприна, знаменитый «дядя Гиляй» — Владимир Алексеевич Гиляровский.
Я смутился.
— Ничего, не пугайтесь! — успокоил меня Гиляровский и с такой силой пожал мне руку, что у меня захрустели кости.
Он пошел к дверям. На пороге он обернулся, сказал, кивнув на меня: «Я в него верю» — и вышел, напевая.
Лысый принял меня в газету, сам меня с этим поздравил и сказал:
— Время сейчас острое, чреватое неожиданностями. По-видимому, мы будем свидетелями вторых смутных лет на Руси. Снаружи пока гладко, но внутри все бурлит. Чем туже будет правительство завинчивать крышку котла, тем сильнее рванет взрыв. Нам нужно следить за этим кипением. Нужно знать, о чем думает и говорит Москва. О чем говорят в театрах и семьях, на базарах и фабриках, в банях и трамваях. Что говорят рабочие, извозчики, сапожники, молочницы, артисты, купцы, инженеры, студенты, профессора, военные и писатели. Вот вы и займитесь этим. Для начала. А там будет видно.
В тот же день я снял маленькую комнату в Гранатном переулке, в том самом переулке, где я родился двадцать три года назад.
Я заметил, что охотнее всего русский человек разговаривает в поездах и трактирах. Поэтому я начал с пригородных поездов — махорочных и шумных. Они не ходили дальше шестидесяти верст от Москвы. Я брал билет до конечной станции и ездил туда и обратно. Так за короткое время я побывал во многих городках под Москвой. Я убедился, что столичная Москва окружена такой замшелой Русью, что даже многие старые москвичи не имеют о ней понятия.
В пятидесяти верстах от Москвы начиналась глушь — разбойничьи леса, непроезжие дороги, гнилые посады, облупившиеся древние соборы, лошаденки с присохшим к шерсти навозом, пьяные побоища, кладбища с поваленными крестами, овцы в избах, сопливые дети, суровые монастыри, юродивые на паперти, засыпанные трухой базары с поросячьим визгом и матерной бранью, гниль, нищета, воровство.
И по всему этому подмосковному простору, где ветер свистел в голых сучьях берез, был слышен подспудный, скрипучий женский плач. Плакали солдатки — матери и жены, сестры и невесты. Плакали безропотно, беспросветно. Как будто ниоткуда нельзя было ждать радости.
Так и стыла эта земля, темневшая по алым полоскам предзимних закатов частоколами ельника, хрустевшая первым сахаристым ледком, застилавшая поля дымом промерзших деревень. И вещими казались слова Блока:
Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма…
Я слушал разговоры — пьяные и трезвые, робкие и отчаянные, полные и покорности и злобы, — всякие разговоры. Было в них только одно общее — надежда на «замирение», на то, что вернутся с войны солдаты и произведут то «облегчение жизни», без которого ничего не оставалось делать, как только помирать голодной смертью.
Как будто весь народный гнев был собран там, на западе, в армии. Деревня ждала, когда же он хлынет оттуда, расколет на черепушки постылую жизнь, сметет убогое существование и мужик и мастеровой, фабричный человек, рабочий, возьмут наконец власть над землей.
Вот тогда-то и начнется жизнь! Тогда-то и зачешутся к работе руки и пойдет по всей стране такой трезвон пил, топоров и молотков, что бей хоть во все колокола — ничем его не заглушишь.
Странное существо человек. Я видел во всех этих подмосковных местах отражение всероссийской беды, но одно обстоятельство вызвало у меня затаенную радость — приобщение к удивительному по своей образности и простоте народному языку. Я впервые так близко столкнулся с ним.
Слова Тургенева, что такой язык может быть дан только великому народу, звучали не как преувеличение, а как прописная истина.
В Москве было иное. Одни бесплодно спорили в поисках выхода, другие знали этот выход и молча готовились к нему, а третьи — обогащались. Появились дельцы железной хватки и размаха. Среди них, пожалуй, первое место занимал сибирский промышленник Второв — нечто вроде утысячеренного чеховского Лопахина из «Вишневого сада».
Над всей этой растревоженной жизнью стояла тень Распутина.
Никогда еще