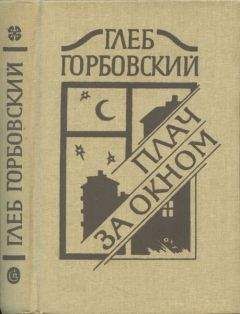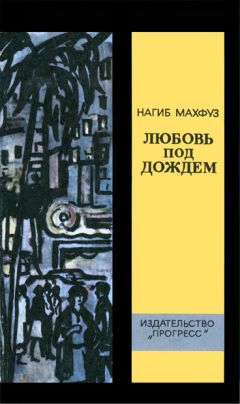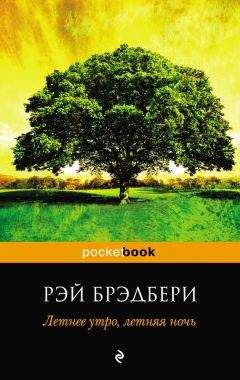— Ккакая флейточка, какой лесовик еще?
— А вот эта самая! — порывисто приобнял Парамоша могучий ствол умершего дерева, пошлепал по нему озорными ладонями. — Разве не чудо, не «струмент»?!
Девушка недоверчиво потянулась глазами к «флейточке», несколько мгновений молча впитывала ускользающий смысл увиденного. Ей, идущей жизненным маршрутом прямолинейно и, скорей всего, не привыкшей отвлекаться по встречным мелочам, трудно было с ходу проникнуть в Парамошины неуклюжие фантазии.
— Послушай… как тебя! Неужели я такой страшный? — поинтересовался Парамоша вослед низкорослой, широкой в кости туристке, припустившей по тропе. Он и разглядеть-то ее толком не успел: скорей всего — из незаметных. Уродины — почему не из робких? Им терять нечего; а смазливые не из робких оттого, что побеждать привыкли; остаются средненькие, неказистые, самые трусливые. — Эй, неужели я такой отвратный? А-а?! — взныл Парамоша вдогонку.
— А вы на себя куда-нибудь в лужу посмотрите! — крикнула из зарослей деЕушка. — Бармалей нечесаный! Пугало небритое…
Парамоше хотелось крикнуть ей «дура!» или что-нибудь более «художественное», попытаться разъяснить этой мышке навьюченной, что и в нем, в Парамоше, немало еще интересного содержится, что ему всего лишь тридцать пять и что, если разобраться, у него еще все впереди, ибо человек как личность начинается чаще всего тогда, когда внешне кончается: когда он с зубами расстается, с шевелюрой да румянцами, обретая веселость высшего порядка, именуемую радость, насылаемую в вашу грудь не только улыбками бытия, но и туманами предосенних ночей, шуршанием опавшей листвы или первой поземки, не только мертвым блеском драгоценного камушка в серьге, но теплым сиянием в ресницах слезы, исторгнутой сердцем.
Именно так, именно об этом хотелось Парамоше не крикнуть — волком завыть, ветром застенать, громом шарахнуть по верхушкам леса, чтобы услышали его не какие-то там туристы, но все мыслимые уши и души, вовлеченные в «жизненный процесс».
«Плохи твои дела, Парамоша, если юкая женщина в глухом лесу Бармалеем тебя величает и не на колени перед тобой становится, моля о пощаде, а, фыркнув, обходит стороной, будто кучу навозную. Не внушаешь ты, Парамоша, трепета священного женщине, не излучаешь флюидов мускулистых, мужественных, способных размягчать не только мысли, но и походку современных эмансипаток. И какая из двух бед хуже — не ведаешь: когда красота шарахается тебя, или сам ты ее бежишь? И то и другое одинаково грустно, Парамоша, и возвещает начало комедии, имя которой старость или одиночество».
И вдруг выяснилось, что Парамоша неплохо ориентируется в незнакомом, труднопроходимом лесу. Сказалась цепкая память глаз, натасканная профессией художника на деталях окружающего мира. Он и в городе, лавируя в переулках, намертво фотографировал пройденный путь, и даже в изрядном подпитии не сбивался с курса, возвращаясь к родному чулану, как подлодка на радиомаяк.
Накренившаяся сосна, ветром вывернутая из земли, с надорванными корневищами, но плашмя не упавшая, а как бы повисшая на руках толпы; едва приметный, как ловкая гадючка, ручей, петляющий в травах и мхах; начинающий ржаветь папоротник, тесно сомкнувший кружево веточек (Парамоша всегда выделял эти папоротники, эти как бы карликовые джунгли доисторические под сводами теперешнего леса); ноздреватый, как головка сыра, пень, пронизанный муравьями; губчатый нарост или наплыв на больном стволе березы, напоминающий застывшую лаву, — вот они, чудесные ориентиры, не только застревавшие в Парамошиной памяти, но и ласкавшие ему взор.
Выйдя к озеру, Парамоша пожалел, что пустился в лес без топора: домой хорошо бы заявиться с вязанкой дров. Задрав голову, поискал сухостоину, которую можно было бы расшатать и повалить.
Водрузив на плечо обломок ствола, не таясь, двинулся тропой к дому, поймав себя на мысли, что своим домом величает никогда ему не принадлежавшее жилье, жалкий старушечий мирок, чуждый, однако необходимый и в данную минуту не менее существенный, нежели утраченный паспорт.
Как ни странно, здесь, в Подлиповке, история с утратой паспорта вспоминалась Парамошей все реже. Здесь, в окрулсении пустых домов, в лесном безмолвии книжечка эта торжественная как бы лишилась ореола официальных чар, предъявлять ее не было надобности: ни почт, ни бухгалтерий, ни жилищных контор. Вот и подзабывался документик помаленьку, словно так и нужно. И вдруг этот наезд участкового в их сонное царство, этот клекот мотоциклетный! Враз оборвавший иллюзию безответственности, беспечности, безнаказанности проживания под сельским солнцем.
«Интересно, — соображал Парамоша, уравновешивая на плече дровину, — убрался мент восвояси, или всерьез меня власть Советская отловить порешила?»
Ответом на вопрос послужило возникновение на тропе человека с ружьем. Военно-полевая фуражка, массизная, щекастая голова охотника, а также подсмотренные Парамошей неделю тому назад с печки смутные черты незнакомого муясчины, пришедшего к Олимпиаде за слабительным, позволяли теперь судить Парамоше, что перед ним — отставной полковник Смурыгин.
Парамоша понимал, что незамеченным мимо полковника не проскочить, не на Невском, и лихорадочно соображал, что ему делать: поздороваться в голос или кивнуть всего лишь? Отвернуться с достоинством незнакомого человека или загадочно так улыбнуться про себя в момент сближения?
Смурыгин действовал решительней. Остановившись на тропе, снял с плеча двустволку, поставил ее прикладом к ноге, отведя от себя стволы наотмашь и этак небрежно опершись о них левой рукой.
— Ну, здорово… племянничек, — приподнял полковник взбугрившимися складками подглазий очки на носу, невесело улыбаясь и одновременно, будто автодорожный знак «кирпич», запрещая этой улыбкой движение на тропе. — Давай знакомиться. Потому что я в здешних местах, можно сказать, главное заинтересованное лицо, дееспособная единица и, вообще, на законных основаниях.
— На помещика похожи. Из «Записок охотника» Тургенева, — польстил Парамоша Смурыгину, а может, сыронизировал, отвечая на «племянничка».
— На кого я теперь похож, молодой человек, не тебе судить. Скорей всего — на родителей. Вечная им память. А вот мы с тобой, паренек, часом, нигде до этого не виделись? Напоминаешь ты мне кого-то, любезный. Сними ношу-то, покалякаем.
— Почему «паренек»? Да еще «любезный»? Отчего так небрежно? Мы еще не целовались.
— А сколько же тебе годков?
— А пятьдесят.
— Ишь ты! Все равно — поменее моего. Фигура тощая смутила — вот и дал промашку. С лица, действительно, если приглядеться, все полета. Прошу прощения. Надолго в наши края?
— А как получится. Может, и навсегда, — Парамоша поставил дровину стоймя в мох, прислонив ее к ближайшему дереву.
— В тутошнюю глухомань и — навсегда? Извиняюсь, в рядах служить доводилось?
— Доводилось.
— И кем же? В каких родах войск, если не секрет?
— Художником. Полгода. Затем — комиссовали. На нервной почве.
— Художником?
— Да, портреты рисовал. Лозунги. В клубе. В идеологических родах войск.
— Ясненько. А может, не в армии? Извиняюсь, на нарах, в принудительном порядке леживать не приходилось? Где-то я вашу манеру наблюдал.
— Какую манеру?
— Держаться. Малость приблатненная манера. И взгляд со слезой.
— Не знаю, что и сказать вам, — заулыбался искательно Парамоша. — На нарах, говорите? Дольше пятнадцати суток не приходилось. Везло до сих пор.
— Что ж, выходит, обознался. Тип лица, понимаете ли, а главное эта растительность небрежная на лице и манера смутили! И зуб вот спереди… выбит как бы. Улыбка характерная. Невеселая. И как бы дырявая.
— Зубы недавно выбили. Два. Браконьеры.
Смурыгин перевернул свой «зауэр» стволами вниз, подвесил на плечо. Коренастый, в высоких болотных «резинках», в казенном, еще крепком нелатанном «хэбэ», с лицом твердым, мясистым и тоже как бы казенным, с нелепыми на таком суровом лице золотыми очками, Смурыгин производил впечатление человека, всю жизнь занимавшегося политикой и вдруг нежданно для себя, уже под старость занявшегося… пением в хоре.
— Я почему интересуюсь: место глухое, однако, несмотря на свои необитаемые просторы, тесное. С любым встречным считаться приходится. Как с членом одной семьи. Мне вовсе не безразлично, кто у меня под боком функционирует. Художник или какой-нибудь композитор с большой дороги. А насчет навсегда в этих краях остаться — почему бы и нет? Вон место лесника на кордоне освобождается, чем не работа? Особливо для тех, кто городом объелся. Ноги держат, глаза видят — дыши, как говорится, в две сопатки во все лопатки! Неотравленным воздухом. За порядком в лесу наблюдай. А в свободное время корзины плети или вот — рисунки рисуй. Портреты — ха! — каких-нибудь пней или птиц. Короче, меня Станиславом Иванычем звать. И с вашей теперешней хозяйкой или тетушкой — жили до сих пор в образцовом согласии. Она человек, хотя и негромкий, малообщительный, однако — уникальный, потому что — последняя. Не просто женщина, а, так сказать, население. В одном лице. Остальные — гости. Кланяйтесь старушке.