Молодой солдат на ступеньках становления в войне стремится подражать командиру во всем, до мельчайших подробностей. Но в этом подражании ограничивается зачастую внешними признаками, не проникая в потаенный духовный мир кумира, что нередко задерживает собственное возмужание солдата. Это тоже, конечно, одна из издержек фронтового быта.
Подойдешь к курсанту, а он тщетно пытается закрутить в лихой ус светлый пушок над верхней губой.
— Как фамилия вашего ротного на фронте?
— Румянцев был, товарищ полковник.
— Это тот, усатый?
— Он самый, старший лейтенант Румянцев, — с гордостью восклицает паренек. — Вы, товарищ полковник, его тоже знали?
— Не так чтоб очень, но, кажется, встречал.
Новые трудности в обучении и воспитании курсантов не были тайной, и командиры подразделений, и преподаватели учебного отдела по вечерам беседовали, обменивались впечатлениями о проведенных в течение дня занятиях, обсуждали отношение к учебе курсантов, особенно с фронтовым опытом. Именовали эти вечера беседами по методике. Назвать их хотя бы начальными поисками в области военной психологии Быстров не решался, и кто бы такое плаванье в потемках одобрил? Методика обучения — да, это забота учебного отдела, пускай ищут!
Если в ходе собеседования обнаруживалось что-то стоящее, нужное в дальнейшем, такие даже небольшие находки протоколировались, например:
«В обучении курсантов необходимо еще более терпеливо и настойчиво добиваться превращения в сознании каждого курсанта жестких уставных норм и строгого училищного порядка в элементы внутреннего управления и сдерживания, и в этом большую роль, чем прежде, должны играть преподаватели учебного отдела».
Собеседования приносили пользу. Командиры подразделений и преподаватели учебного отдела стали более строго и осмысленно относиться к своей работе, более вдумчиво и уважительно — к обучаемым, и учебный процесс стал более зрелым.
Начались двухмесячные командировки на фронт преподавателей тактики — молодых, имевших законченное высшее или среднее образование и военную подготовку в объеме полного курса пехотных училищ, методически зрелых и хорошо зарекомендовавших себя в училище.
В письмах с фронта или по возвращении командированные докладывали:
«Мы благодарны училищу. Фронт оказался именно таким, каким мы его представляли по командирским занятиям. Ничего неожиданного, и наши знания пересмотра не требуют».
«Оберегают нас, не пускают в бой. Говорят, предупреждены — сберечь! Неловко стало, поспорил, и уже две недели как командую батальоном, но кадровый командир всегда рядом».
«Целеуказание и постановка задачи артиллерии упрощены и ограничиваются двумя словами: „Давай огня!“ Все за комбата делают артиллерийские наблюдатели, идущие вместе с пехотой».
Но были и серьезные размышления:
«Складывается впечатление, что той старой пехоты, тем более как главного рода войск, уже не существует, и будет ли еще когда-либо? Только очень небольшие задачи под силу пехоте в этой войне, и ее участие даже в крупных сражениях уже не является решающим. Пехотные подразделения в бою и на марше связаны с танками, бронетранспортерами, и возможно, складывается новый род войск — пехота на машинах на марше, а в бою — с танками».
Письма, поступавшие с фронта, как и доклады командированных на фронт по их возвращении, серьезно обсуждались, оценивались и по ним принимались решения, в том числе и такие:
«В тактической и огневой подготовке ничего не менять. По темам „Отделение или взвод в наступательном или оборонительном бою“ усилить условно выделяемые противотанковые средства, отрабатывать взаимодействия с ними и вопросы целеуказаний».
Партийно-политическая и массовая работа не входила в область служебной работы Быстрова, но он в какой-то мере участвовал в ней.
Все преподаватели социально-экономического цикла, как и большая часть работников партийно-политического аппарата, имели большой опыт работы и, как правило — высшее образование. Многие в довоенные годы работали лекторами областных комитетов партии и постепенно приобретали навыки в работе с курсантами и командными кадрами училища.
Самодеятельность была развернута широко, и в ней участвовали командиры и политработники, их жены, курсанты, был очень хороший оркестр.
Часто в клубе выступали крупные артисты, ставились небольшие пьесы, исполнялись стихи К. Симонова, А. Суркова, читали статьи И. Эренбурга и пели столь любимые фронтовые песни.
Политическая зрелость курсантской среды была очень высока. В частности, искренне радуясь открытию второго фронта, высказывали такие никем не подсказанные мысли:
— Хорошо, что наконец решились! Только какой же он второй фронт — он же первый… для спасения капитализма на европейском континенте.
…Быстров уже знал о предстоящем поступлении ночью важного правительственного сообщения и понимал, что оно может быть только о капитуляции немецких войск и об окончании этой долгой и тяжелой войны. По опыту жизни он знал, что по крайней мере в звене полка и ниже самые строго охраняемые тайны, если они связаны с предстоящими перемещениями или значительными изменениями, становятся известными солдатской массе в общих чертах лишь немногим позже, чем о них узнает хотя бы один человек. Поэтому его не удивило, что учеба в тот день, 8 мая, разладилась, у него у самого ничего не клеилось.
Вдруг раздался тревожный телефонный звонок:
— Простите, не вы начальник гарнизона?
— Да, я исполняю эти обязанности. Чем могу служить?
— Я понимаю… это не телефонный разговор, но мы в растерянности. Директора нет, не можем найти и парторга, а рабочие бросают работу и массами выходят в город…
— Постойте, электропечи как?
— Там спокойно, все работают. Мыслимое ли дело печи бросать… Мы только просим, чтобы вы приехали и поговорили с рабочими. Они вас, как военного…
— Нет, не приеду, и вам вмешиваться не советую. Следите за электропечами… Словом, поживем до утра, а там видно будет.
Узнали об ожидаемом важном правительственном сообщении и рабочие оборонных заводов. Бурная радость вылилась в стремлении на улицы города, на площади, к людям. Кто знает, может, оно и было лучшим проявлением чувств, самым понятным и самым человеческим?
Но вот и оно, раннее утро девятого мая сорок пятого года, утро первого Дня Победы, навстречу которому мы шли тяжело и долго, даже в самые мрачные дни не теряя веры в него — будет оно, непременно будет!
Ночью поступил текст акта о капитуляции вооруженных сил Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР за подписями М. Калинина и А. Горкина, установивший, что «9 мая является днем всенародного торжества — Днем Победы». В акте говорилось о капитуляции вооруженных сил Германии, в Указе Президиума Верховного Совета — о победе над немецко-фашистскими захватчиками. Первый был совместным документом, подписанным нашим командованием и командованием наших временных союзников, а второй содержал наше собственное понимание послевоенных обстоятельств. ЦК партии заблаговременно подготавливал народ к тяжелой и сложной борьбе за мир, и не забывались слова члена ЦК, товарища Шверника, сказанные им в докладе на партийном активе еще в марте: «Война подходит к концу. Предстоит тяжелая борьба за мир, требующая больших усилий…»
Холодная война готовилась, но еще не стучалась в дверь, мы о ней не знали и не обращали внимания на такое, может быть, случайное расхождение в тексте документов. К тому же — мы были счастливы, а счастливый внимательным не бывает.
День был выходной, первый за четыре года войны, и первый Праздник Победы. И погода удалась — сухой, солнечный, теплый день. Многотысячные колонны рабочих, работниц, многие с семьями, двигались в сторону старейшего завода, в парк. Все были радостны, одновременно смеялись и плакали, радовались наступившему миру, гордились нашими вооруженными силами, трудовыми подвигами народа, великой партией Ленина.
Быстров смотрел, запоминал и был радостен и горд: ему удалось увидеть то, что не всем дано, — радость победившего народа.
Февраль сорок шестого. Поезд местных линий, средняя полоса. Вагон переполнен сверх всяких норм, но, уплотняясь, все как-то устраивались. Было душно и холодно. Вагон не отапливался, и лишнее бы это — стекла в войну выбило, и в плохо заделанные фанерой оконные проемы тепло ушло бы так же легко, как уходил едкий запах изношенных полушубков, самосада и давно не мытых тел.
Света не было. Вначале свеча маленько подмигивала над дверью, как сигнальный огонь дальнего маяка, а потом потухла. Догорела ли или спер кто? Да и нужды в ней не было. Все равно никуда не пойдешь. Ни по какой нужде — там тоже сидели. И кулька своего с собой не возьмешь, а оставишь — и позаимствовать могли бы.
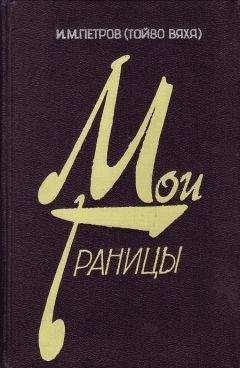

![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)

