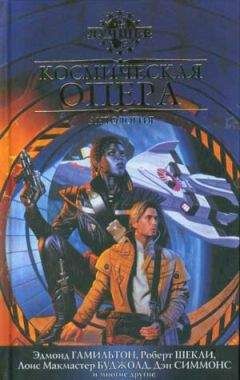— Что ж вы делали? — вяло спросил Павел.
— Целовались, як звери!
— Ну, за вашу радость, Гриша.
Они чокнулись, выпили вино.
— А ты як? — поинтересовался Блажевич. Грише в эту минуту хотелось, чтоб всем было хорошо и радостно, как ему.
— Я — ничего… Женщину вот одну встретил… — начал было Павел.
— Ну-у?! — воодушевился Блажевич. — Красу́ня?
— Да нет, — пожал плечами Абатурин. — На улице. Темно было.
— А-а.. — поскучнел сварщик. — Давай спать.
Они написали записку Линеву, чтоб выпил свою долю вина, не будил их, и улеглись.
Павел лежал с открытыми глазами и думал о том, что у него, видно, все всегда получается не так, как у других. И копошилось в груди такое странное чувство, точно он одновременно и злится на себя, и жалеет себя. Почти засыпая, видел волну тяжелых русых волос — одни только волосы без лица — и снова сердился, что не может представить это неведомое, но несомненно красивое лицо. «А почему красивое?» — уже во сне спрашивал он себя.
Утром, когда шли на работу, Линев сообщил весело:
— Музей вдоль и поперек истоптал. Даже сапоги устали. И все из-за дружбы. Понимать надо, Блажевич.
— Ты же утром пришел! — засмеялся Гришка. — Музей? Из-за дружбы?
— Я не только с тобой дружу, — нашелся бригадир. — С одним, с другим поболтаешь — и ночь долой.
Весь день на работе Павел хмурил широкие брови, рассеянно отвечал на вопросы товарищей.
Линев подозрительно посмотрел на него, заметил с досадой:
— Не умеешь пить — не пей. Лететь-то не близко…
И ткнул пальцем вниз.
— Я мало пил, — смутился Павел.
— Знаю, — проворчал Линев, но на всякий случай подергал на Абатурине монтажный пояс. Ремень был прочно застегнут, а его цепь, защелкнутая карабином, прикреплена к отверстию фонаря. Бригадир довольно тряхнул головой.
В этот вечер они никуда не пошли. Павел разложил на тумбочке учебники и тетради — надо было готовиться к зачетам. Линев застелил всю кровать чертежами и вымеривал их кронциркулем. Блажевич делал сразу три дела: читал «Звезду» Казакевича, насвистывал какой-то военный марш и крохотной расческой приглаживал торчащие во все стороны усы.
И никто из них даже не заметил, как дверь в комнату тихо, без стука отворилась, и на пороге вырос дядечка с рыжей разбойничьей бородой. Он молча осмотрел комнату, пошевелил хилыми плечами и робко потащил к пустой кровати свое имущество.
Поколебавшись немного, открыл сундучок, стал перед ним на колени. Казалось, он молится этому сундучку.
Разложив на тумбочке железную мыльницу, опасную бритву в потертом футляре и партию домино, сел на краешек кровати и поморгал редкими белобрысыми ресницами.
— К нам, что ли? — удивленно спросил Линев.
— А то к кому же? — искренне удивился новичок вопросу. — Здесь и стану жить.
Он беззвучно пошевелил губами, вздохнул и снова опустился на колени перед сундучком. Достал из него бутылку водки, поставил на стол, сообщил:
— Кузякин я. К Линеву в бригаду. Ты, что ль, Линев?
— Я.
— Следовательно, выпить надо.
— Я не пью, — уныло отказался Линев. — Они — тоже.
— Не может того быть! — удивился рыжебородый.
Никто ему не ответил.
Кузякин окинул всех взглядом синих обесцвеченных глаз, вытер усы тыльной стороной ладони:
— Один выпью, коли так… Можно?
Опорожнил всю бутылку, удивился, что она так скоро опустела и внезапно выругался:
— Дерут за водку, туда их!.. Денег не напасешься.
— А ты не пей, — мрачно посоветовал Линев. — На корову накопишь.
— Мне корова ни к чему, я — заводской, — отозвался Кузякин. — Опять же молоко не мне, а вам больше подходит. Вот как.
Он пьяно усмехнулся и снова оглядел всех уже посмелевшими глазами.
Лег, через минуту стал похрапывать, и его борода вздрагивала в такт дыханию.
— М-да, — сморщился Линев. — Пополненьице!
— То ли пьяный, то ли дурной? — почесал в затылке Блажевич.
Спать легли в эту ночь поздно. Когда поднялись с кроватей, Кузякин уже сидел перед зеркальцем и скреб себе щеки бритвой. Усы и бороду он не трогал, и бритье заняло мало времени.
Увидев, что бригадир проснулся, он вскочил на ноги, сказал, оголяя зубы в улыбке:
— Будить хотел. Да жалко. Молодым только и поспать.
Умывшись в душевой и посвежев, Кузякин сказал Линеву:
— Ты мне фронт обеспечь, чтоб зря баклуши, значит, не бить. Интересу нет.
— Ладно, — качнул головой Линев. — Будет фронт.
Просьба новичка ему понравилась.
Стены стана вытянулись уже почти на километр. Почти всюду были одеты кровлей. Бригаде Линева пришлось переместиться в самый конец цеха: монтировать последние фонари.
Новый монтажник работал с завидной быстротой и аккуратностью. Тяжелый монтажный ключ в его руках казался почти невесомым, гайки на болтах он закручивал так прочно, будто приваривал их.
Линев заметил, что на высоте Кузякин не привязывает себя монтажным поясом, и напомнил ему о правилах безопасности.
— Не изволь беспокоиться, — ухмыльнулся рыжебородый. — Со мной ничего не бывает.
— Привязывайся, — нахмурился Линев. — Убьешься — тебе нехорошо, и нам не лучше.
— Ладно, — вяло ответил Кузякин. — Можно.
Но привязываться все же не стал.
Перед сном Кузякин раскупорил четвертинку водки, выпил половину, тщательно заткнул бутылку пробкой.
Покрасневшие белки его глаз заблестели, и он бросил Линеву:
— Ты не трожь меня, парень. Я лучше знаю — что надо, а что нет. Мне пояс ни к чему.
— Спорить с тещей будешь, а там нельзя, — бросил Линев. — Там — работа, и дисциплина рабочая. Это запомни, на всякий случай.
— Ого! — усмехнулся Кузякин. — Некрупный парнишко, а басом трубишь. Ну, да и у меня горло луженое.
— Может, тебя бригадиром выбрать? Тайным голосованьем? — с вежливой яростью поинтересовался Блажевич.
Кузякин не ответил. На этот раз он неожиданно для всех захмелел. Не раздеваясь, лег на койку, сказал, хмуро разглядывая потолок:
— Я, Линев, бригадиром был столько, сколько ты по земле бегаешь. Выгоняли меня, это верно. За водку, следовательно.
Поскреб себя по груди, сообщил, будто тайну выложил:
— Вот он какой, Гордей Игнатьич Кузякин…
Абатурин спросил мягко:
— А отчего вы, Гордей Игнатьич, тут живете? Разве не женаты? Своего жилья нет?
— Все есть, — махнул растопыренными пальцами Кузякин, будто ударил по струнам балалайки. — А мне не надо.
— Почему?
Кузякин промолчал. Он поворочался на кровати и неожиданно запел. Голоса у него не было никакого, и песню он свою просто выговаривал, растягивая слова.
Песня была о бродяге, который бежал с Сахалина, и о том, что его жена всегда найдет себе другого, а мать сыночка не найдет. Половину слов Кузякин сочинял сам.
— Смел, паку́ль пьян, — пожал плечами Гришка.
— Это точно, — прервав песню, охотно согласился Кузякин. — Бутылочка моя храбрость, сынок.
Спустив ноги с кровати, долго смотрел на Абатурина, будто вспоминал, о чем тот его спрашивал.
— Говоришь, зачем из дома ушел? Скажу. Баба у меня лютая. Дикая, проще сказать, баба.
— Довел ее, нябось, до белой гарачки. Выгнала?
— Не, сам ушел.
— Ну, ладно, мы разберемся, — сказал Линев, — что у тебя там вышло.
Кузякин расхохотался:
— Она тебе там даст прикурить, гулява!
В субботу, после смены, Блажевич отвел Абатурина в сторонку, прошептал:
— Выручишь?
— О чем ты?
— Прово́дзь до диспансера. Катю видеть хочу. Боязно.
Павел хотел сказать, что он стесняется подобных дел больше, чем разбитной Блажевич, но вместо этого кивнул головой:
— Отчего не проводить? Провожу.
Они шли уже по Садовой улице к диспансеру, когда в его дверях появилась хорошо сложенная и, кажется, красивая девушка. Она поравнялась с молодыми людьми, бросила взгляд на Павла и чуть прищурила глаза.
У Павла заколотилось сердце. Он глядел на нее только одно мгновенье и все-таки запомнил: у нее были большие синие глаза, тонко очерченные, чуть бледные губы, прямой, может быть, немного вздернутый нос.
Когда она прошла, Павел оглянулся, и сердце у него снова зачастило: светло-русая, прямая волна волос ровно падала ей на плечи, почти не сотрясаясь от ходьбы.
«Она, — взволнованно соображал Павел, — та, которую видел ночью. Почему нахмурилась?.. Узнала?.. Недовольна?.. Но ведь я ничего плохого не делал… Отчего сердиться?..»
Оглянулся еще раз. «Что ей надо здесь, на другом конце города?»
Абатурин попытался успокоить себя: «Ну, что мне до нее? Глупо это. Мало ли кто встречается на дороге…» Но успокоение не приходило.
Эта немного странная женщина или девушка почему-то волновала его. «Да, конечно, она очень красива… А вдруг пустышка, вроде той яркой и изломанной женщины, с которой вместе ехал в поезде… Как ее звали? Да, Глаша. Может, и эта такая? Нет, не похоже. Она хорошо себя вела там, на ночной улице…»