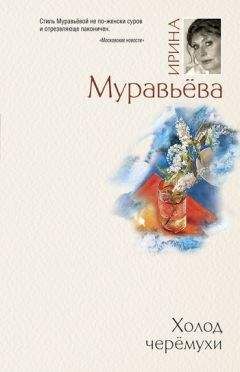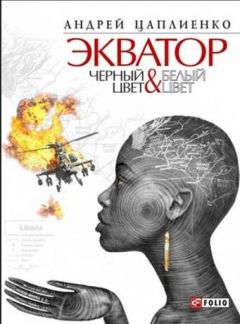— Знаешь, Домна, ты страхи не собирай. Это отдельные случаи, рядовые, можно сказать, случаи… Да и вообще, куда я твои бумажки приспособлю? Забирай.
Листки Домна Игнатьевна не забрала. Тяжело вздохнула, глядя на Карпова, покачала печально головой и вышла из сельсовета, неловко спотыкаясь, словно побитая.
Как ни тяжело ему было, Карпов дочитал листки до конца, сложил их, но папку в шкаф не засунул, оставил на столе.
…А еще Поля любила ходить на оконешниковский холм. Он высился у самой кромки бора, правее кладбища. На левый его склон взбегали молодые сосенки, мохнатые и разлапистые, а правый был густо затянут колючим облепишником. В облепишнике ярко желтели маленькие ветки с початками спелых ягод. Ягоды, если приглядеться, на солнце просвечивали. А солнце к обеду неожиданно прорвалось сквозь густую завесу туч, набирало силы, веселило и обогревало всех людей, какие ходили под ним, и не только людей, но и забоку, бор, Обь, она посветлела, больше уже не казалась пустынной и серой, а на излучине даже поблескивала.
Чтобы подняться на макушку холма, надо было пройти по узкой тропинке через густой облепишник. Когда идешь по ней, початки спелых ягод чуть не задевают за лицо. Поля осторожно сорвала с ветки одну ягоду с серым хвостиком, положила в рот, шершавая шкурка облепишки лопнула, и кисловатый сок чуть защипал язык. Вот и тропинка позади, теперь впереди только холм, затянутый до макушки серой, жесткой травой, шуршащей под ногами. Ее называют могильником. Если могильник понюхать, то пахнет от него приторным запахом, какой всегда появляется в доме, где лежит покойник. Макушка у холма голая, на ней серый песок, успевший чуть-чуть подсохнуть на солнце. На песке была поставлена на попа толстая сосновая чурка. Поля присела передохнуть и жадными, наскучившимися после разлуки глазами осмотрелась вокруг, стараясь разглядеть и запомнить все, что виднелось внизу. А виднелось: справа — крутой изгиб Оби и яр на другом берегу; прямо — деревня, обласканная солнцем, деревню охватывал полукольцом темный бор, но темнел он только поверху, а ниже был подкрашен серо-золотистым цветом стволов, казалось отсюда, что они стоят плотно, один к другому, как частокол.
Еще росло на холме, на самом его верху, одинокое дерево — корявая боярка с толстыми деревянными иглами, расшеперенная во все стороны. Боярка была усыпана ягодами, и иглы сторожили их, впиваясь в руки и в одежду каждому, кто пытался подойти к ней. Поля давно узнала, что к боярке можно подойти, даже не уколовшись. Надо лишь пригнуться и пролезть под нижней веткой, чтобы она оказалась за спиной, а там свободное место. Вставай в полный рост, бери ягоды. А если сдуру, напрямки ломиться, обязательно оцарапаешься. Но мало кто догадывается, все норовят дотянуться с краю, а чтобы не царапались иглы, отламывают ветки, потому и стоит боярка растрепанная, щетинится еще сильнее, пытаясь никого не подпустить к себе.
Глядя на боярку, Поля всегда поражалась людской недогадливости. Ведь все можно делать по-иному. С добром и пониманием. Надо лишь внимательней смотреть вокруг. И Поля смотрела, не уставая, лицо ее становилось строгим, большие глаза словно останавливались на одной точке и не мигали, лишь распахивались еще больше и тревожный свет вспыхивал в них. Ее окружала природная красота, тронутая холодной рукой осени, но даже и сейчас, в эту пору, все вокруг находилось в удивительном и негромком согласии, в том самом согласии, которого нет среди людей. А найти его, верила Поля, можно очень просто. Надо полюбить тех, кто живет с тобой рядом. И она старалась любить всех: соседей, мать и даже Васю, которого стеснялась чуть не до слез, она отыскивала в них только хорошее и всегда это хорошее находила.
Тут Поля останавливала свои мысли, потому что дальше они становились невнятными, неясными… как, каким образом переплавится эта любовь в добрые дела? Поля не знала. И тогда она начинала самой себе рассказывать старую, давно знакомую, теплую бабушкину сказку.
Вот какая получалась у Поли сказка.
Давным-давно стояла на обском берегу деревня, и жили в ней обыкновенные люди, занимались своими привычными делами: сеяли хлеб, ловили рыбу и ходили на охоту — и все у них в жизни было спокойно и ладно. Было так до того дня, когда случилось памятное событие. Поутру, весной, на коньке крыши одного из домов появилась невиданная птица с ярко-розовым опереньем, похожим на раннюю зарю. Она пела чудным, переливчатым голосом, и людской слух различал в этом голосе очень многое: журчанье талой воды, шум соснового бора, шорох сентябрьских вызревших хлебных колосьев и мягкий колокольный звон на пасху. Откуда и зачем она прилетела — никто не знал, но привыкли к ней очень быстро, и, поднимаясь ранним утром, собираясь начать неотложные крестьянские работы, люди вслушивались в песню невиданной птицы, и каждый новый день начинался у них с радости. Так шел год за годом, пока не зародилась у одного мужика черная, как змея, тайная корысть. Решил он поймать птицу, увезти из деревни на чужую сторону, продать за большие деньги и разбогатеть. Еще с ночи, приготовив хитрый силок из конского волоса, забрался он на подызбицу, открыл легонькие тесовые воротца и стал ждать. Когда появилась птица, ее гордую, изогнутую шею захлестнул крепкий и тонкий конский силок. Рванулась бедняга в сторону — не тут-то было. Ловкие руки уже перехватывали ей крылья и зажимали клюв, чтобы не подала она голоса. Засунул мужик птицу в мешок, вскинул мешок себе на загорбок и подался в чужие края. Проснулись люди, прислушались по привычке, а в ответ им — тоскливое молчание. И люди не улыбались, не торопились приниматься за свои дела, тыкались из угла в угол, опустив руки, и в раздражении, в злости, что лишили их чудного голоса, стали кричать друг на друга и злиться. Каждому мнилось, что в его тоске виноваты другие. И стали не только кричать, но и бросать друг в друга камнями и палками. С каждым днем росло и ширилось между людьми зло, не успели они заметить, как затопило оно деревню, словно вешняя вода, вышедшая из берегов.
И была в той деревне девушка, которая не хотела жить такой жизнью и все думала о том, как вернуть обратно диковинную птицу и ее чудную песню. Она думала про это целыми днями, но придумать ничего не могла и лишь звала, звала на помощь человека, который бы все помог переменить. Ведь должен быть такой человек, который знает единственные и правильные слова. С таким нетерпением ждала его девушка, так о нем мечтала, что он однажды появился. Встал на пороге, улыбнулся тихой улыбкой и протянул широкую, сильную руку. Девушка сразу доверилась ему, долгожданному, полетела навстречу, как летит человек навстречу доброй вести. «Надо, чтобы птица вернулась обратно в деревню, — говорил девушке пришедший. — Но она вернется лишь тогда, когда не будет здесь зла, корысти и наживы. Люди забыли, что жизнь красива. Пойдем и покажем им, как красива она». Был пришедший человек статен и молод, был он красив и силен, и девушка возле него, как трепетная ветелка возле мощного осокоря, была еще красивей. Будто поплыли они по деревенской улице, и земля перед ними расстилалась, зеленела травами, шумела высокими деревьями и обвевала их мягкими ветрами. Люди переставали ругаться, переставали кидать друг в друга палками и камнями, замирали на месте, будто пораженные невиданным зрелищем. А мимо них просто шли и просто, по-доброму, улыбались два красивых человека. Чем больше глядели на них люди, тем сильнее им хотелось быть такими же. И вдруг, в эту самую минуту, неизвестно откуда, раздалась полузабытая уже, но все-таки оставшаяся еще в памяти чудная песня невиданной птицы. И снова слышалось в ней журчанье талой воды, шум соснового бора, шорох вызревших колосьев и колокольный звон.
Девушка и пришедший человек уходили все дальше и дальше. «Как же мы их всех оставим? — спросила девушка. — Ведь они снова возьмутся за старое?» «Не бойся, — ответил он ей. — Они услышали песню уже не от птицы, а в душах своих. И будут теперь ее беречь. А мы пойдем, разыщем птицу и расскажем ей, что песня ее жива. Птица вернется».
Такую сказку рассказывала самой себе Поля и, как всегда, заплакала, дошептывая последние слова.
По-прежнему светило между раздернутых туч солнце, по-прежнему медленно и лениво, словно устав за лето держать на себе пароходы, баржи и лодки, катилась Обь, и в том месте, в котором она заворачивала, на самой ее середине, синела, похожая на заплату, быстрина; быстрина заворачивала вместе со всей водой, но дальше шла не вдоль, а наискосок, к берегу, и уже там меняла свой цвет, светлела до белизны, закручивалась в воронки и мыла без устали крутой берег, отваливая от него большие песчаные комья.
Видела Поля и быстрину, и яр, но как в тумане — мешали слезы. И снова, в какой уже раз чудилось: вот прояснеет взгляд и сразу, в ту же минуту, увидит она все по-другому, не так, как раньше. И деревня будет другая, и река, и холм, и бор, а еще — увидит она долгожданного человека, который придет за ней. Он возьмет ее за руку и поведет в иную, сразу переменившуюся жизнь. Так Поле верилось, что она приготавливалась, замирала в ожидании, но ничего, конечно, не происходило.

![Елена Коронатова - Бабье лето [повесть и рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149658/149658.jpg)