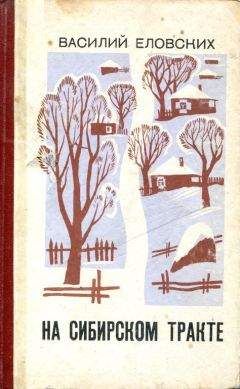— Надо проводить экономические совещания. Они принесут большую пользу.
И эта — о бедном Вьюшкове:
— Он или мало чего понимает, или допускает, я бы сказала, преступную халатность.
Раскрыла блокнот и давай цифрами сыпать, будто семечками. Затрат столько-то, убытки составляют... Дескать, вот так и никак иначе.
Ее слова обижали Максима Максимовича.
— Иван Ефимович говорит...
«Как у них все легко и просто, — злился Утюмов. — «Мало понимает», «Преступная халатность».
«Иван Ефимович говорит», «Иван Ефимович велел», «Так решил Иван Ефимович» — это Максим Максимович слышал не только от Дубровской...
«Неймется людям, не живется спокойно. И голос какой уверенный — почти приказывает».
Он слыхал об экономических совещаниях, читал о них, одно время даже подумывал, не организовать ли их у себя в совхозе, но не решился: в Новоселове и без того много заседаний и немало речей. Максим Максимович на месте новичков тоже предлагал бы что-то новое: новаторов ценят, только стоит ли сейчас, когда, можно сказать, сидишь на чемоданах, с нетерпением ожидая вызова в город, заниматься перестройками, эффективность которых в условиях Новоселове еще весьма сомнительна; главное, к чему он стремился, — сохранить все на прежнем уровне, избежать чэпэ, которые, как никогда прежде, могут повредить ему.
Разговор с Дубровской навеял на Утюмова какую-то странную щемящую грусть. Все у молодых специалистов есть ныне; обучили, выхолили, ишь как легко, уверенно рассуждают. И одежда модная. А Максим Максимович в их годы носил латаную стеганку, кирзачи, которые «каши просили».
Птицын, тот вконец отшатнулся, держится замкнуто, силится показать, что погряз в бумагах, подозрительно быстро привык к канцелярщине — ловко перебирает бумажонки, столь же ловко подшивает их, будто только этим и занимался всю жизнь, научился печатать на машинке, с планерок старается улизнуть, ни о чем, кроме как об отделе кадров, не говорит и можно подумать, что никакого отношения к агрономии он никогда не имел. Не выдержал однажды Максим Максимович, сказал ему грубо:
— В укромное местечко запрятался и лапки сложил.
— Ввиду болезни, Максим Максимович. Что я теперь... Плевком можно зашибить.
«Надо же, прикидывается!» — подивился Утюмов, кажется, впервые заметив юношескую, как у Дубровской, свежесть щек Птицына.
— Притворяешься...
— Дела свои содержу в порядке... — Он пожал плечами, дескать, зачем придираться.
Будто ничего не понимает, чертов обыватель.
Утюмов чувствовал: приказы директорские уже не столь обязательны для людей, фигура его не столь впечатляюща; на глазах у всех он как бы бледнел, стушевывался, и от этого в душе поселялась постоянная тревога и въедливая горечь. И, как часто бывает в таких случаях, стало давать знать о себе немолодое сердце: пройдешь быстро — одышка, на лбу пот холодный выступает. И аппетита никакого нет.
Знакомый горожанин посоветовал: «Ты вот что... Перед едой опрокинь-ка рюмочку, смотришь, и закусить захочется». Опробовал. Аппетит действительно появлялся, и еще появилась... тяга выпить... Чем больше неприятностей, тем сильнее хочется стаканчик-другой пропустить. Но когда почувствовал, что слишком уж тянется к «зеленому змию», твердо сказал себе: «Хватит!» С той поры перестал «опрокидывать».
«Ну ничего, ничего...» — успокаивал он себя, подразумевая под этими неопределенными словами долгожданную развязку — переезда в город.
Позвонил Ямщикову, задал два-три пустячных вопроса, со сладкой тревогой ожидая, что председатель райисполкома вот-вот весело спросит: «Ну как, готовишься к переезду?», но тот говорил о подготовке к сенокосу, к хлебоуборке, и голос его был подозрительно холоден и резок.
А дни шли. Они по-прежнему казались Максиму Максимовичу серыми, однообразными, как тучи в промозглую, ненастную осень.
Особенно сильное беспокойство, непривычную тревогу Утюмов испытывал перед партийным собранием; ему казалось, что Лаптев, Мухтаров, Весна и Дубровская что-то недоговаривают в беседах с ним и это может однажды прорваться. Правда, Дубровская — комсомолка, а Мухтаров беспартийный, так что остаются только двое.
Весна сказал:
— На следующем партсобрании давайте обсудим вопрос о рентабельности.
— Почему вдруг о рентабельности? — насторожился Утюмов. — На носу сенокос, надо готовиться к уборке.
— Так предлагает райком. Основной вопрос в жизни предприятия. Там поговорим и об уборке, и о заготовке кормов. С докладом лучше выступить вам, Максим Максимович, как директору.
И лучше, и хуже. Лучше, поскольку он «обобщит, даст направление», потом послушает прения и выступит с «заключительным словом», в котором покритикует, поправит тех, кого надо будет покритиковать и поправить. Примут «развернутое решение», и на том собрание закончится, чего еще... Значит, он будет выступать первым и последним, а это удобно. Но вопрос о рентабельности был ему не совсем по душе, рентабельность представлялась чрезвычайно сложным, даже несколько запутанным делом, отдаленным от его собственной практики, и когда возникала необходимость говорить о ней, — а без этого в докладах и выступлениях нельзя, — Утюмов отделывался общими фразами, призывами «бороться за прибыль», «за снижение себестоимости», «за режим экономии».
В прежние годы он думал: прибыльность придет сама собой, стоит лишь «поднять общий уровень производства», то есть смотрел на рентабельность как на само собой приходящее, как на своеобразный придаток; потом начал понимать, что заблуждается. Нынешней весной накупил книг по рентабельности, хозрасчету, прочитал их с трудом «от корки до корки», конечно, много извлек полезного, но по-прежнему не чувствовал себя знатоком в этом деле.
Он решил подготовить краткий доклад — последнее время стали в моде краткие доклады, выписал из книг, газет и «Блокнота агитатора» несколько общих фраз повнушительнее. Но одними общими рассуждениями не отделаешься, рентабельность — понятие конкретное, и Максим Максимович использовал старый свой ход: дал задание тому, другому подготовить цифры, факты, написать отдельные части доклада. Написали, и неплохо. Кое-что подсократил, кое-какие пословицы и поговорки в доклад «ввернул», они здорово на людей действуют. Добавил в деликатной форме, но довольно ясно и определенно, что главные специалисты — Лаптев, Мухтаров и Дубровская должны больше интересоваться рентабельностью, так как вопрос этот — наиглавнейший. На его взгляд, непростительно мало занимается этим Дубровская, а она — главный экономист, ей, казалось бы, и карты в руки: молодая, силенок много, вот и работай, показывай пример, выискивай пути к высокой рентабельности.
Когда-то давным-давно старый умный мужик — бог его знает, где он теперь — напутствовал молодого Максима: обвиняй других в том, в чем сам виновен и тогда твои собственные недостатки в глазах людей будут выглядеть меньшими. Утюмов так и делал; прежде обвинял людей в том, что они не очень-то любят село, страдают показухой и тягой к красивым, ложным отчетам, а вот сейчас говорил: не интересуются рентабельностью. Поди, докажи, что интересуешься. И, верный себе, добавил не очень свежую пословицу: без труда не выловить и рыбки из пруда.
Собрались в Доме культуры. Читая доклад громким хрипловатым басом, Максим Максимович мысленно ругал себя за то, что не нашел времени зайти сюда и дать нагоняй директору: совсем облентяйничал, пакостник, — стеколки в окнах побиты, дверь скособочилась, грязно и пахнет псиной, а ведь столько деньжищ ухлопано на этот дом. Лицо его, как всегда, выражало строгость, деловитость и усталость. Присматривался к залу, слушая свой голос как бы со стороны. Партсобрание сегодня открытое. В зале и беспартийные, те, кто получше и поактивнее работает. В первом ряду сидит Лаптев, большой, костистый, со впалыми щеками. Он в Новоселово вроде еще больше осунулся.
«Совхоз — это тебе, голубчик, не городская квартирка, хе-хе!»
Рядом с Лаптевым — новый главный агроном Мухтаров. Сидит неподвижно, будто застыл, только глаза сверкают. Весна за столом президиума, что-то пишет. Птицын во втором ряду, у стены. Пренебрежительный взгляд, губы поджаты, можно подумать, что осуждает каждое слово докладчика. Но знал Утюмов, только Птицын может активно поддержать его. Вчера Максим Максимович сказал ему: «Я на тебя надеюсь. О чем говорить — знаешь», — и многозначительно поглядел. Дубровская пристроилась в заднем ряду, что-то шепчет соседке на ухо, хихикает. Леший ее разберет, что там у нее на уме.
Ба, Вьюшков с женушкой приперся! Оба беспартийные. «Сам» в праздничном костюме, при галстуке, но все равно какой-то неопрятный, взлохмаченный, похожий на петуха, которого весь день гоняли по птичнику; сидит, будто на горячих углях: то приподнимется, то плечом поведет, то сморщится. Надо сказать ему, чтобы выступил, очень кстати будет. И сестрица Татьяна здесь. Как же — передовик, пригласили; с такой будь настороже.