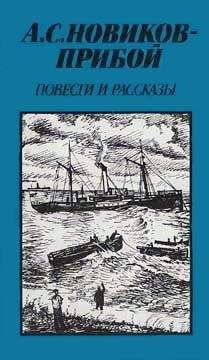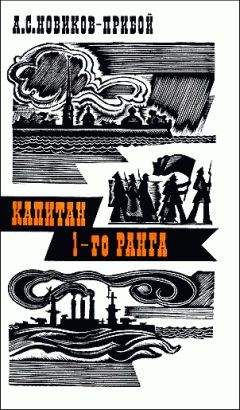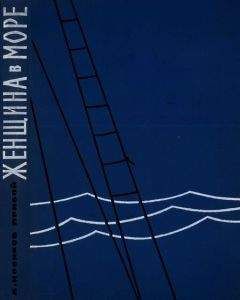Дочь, как только спустилась внутрь «Мурены», пришла в восторг:
— Прелесть! Светло, как в театре. Папочка, да тут столько приборов разных, что можно запутаться! Я бы ни за что не разобралась.
— Поэтому-то, Люсик, ты и не командир, — смеется Гололобый.
— Папочка, а это что за машины?
Отец говорит ей о дизель-моторах.
— Нет, все здесь удивительно! Нечто фантастическое!
У Люси звонкий голос, а с молодого лица радостно излучаются две спелые вишни, как два солнца. На тонкой фигуре белое прозрачное платье. Она кажется мне чайкой: спустилась на минуту в лодку, но сейчас же упорхнет в синий морской воздух. И уже не верится, что от такой радостной женщины может случиться несчастье. Я смотрю на нее и думаю: неужели Гололобый, напоминающий собою гиппопотама, — ее отец?
— Папочка! А где же перископ? Я хочу посмотреть в него.
— А вот командир покажет тебе.
Она поднимает ресницы и бросает на командира ласковый взгляд.
— Пожалуйста! Я с удовольствием вам покажу.
Гололобый продолжает осматривать лодку, всюду заглядывать. Вот здесь-то и случилась непредвиденная каверза. Не успел он войти в офицерскую кают-компанию, как на него набросился наш Лоцман. Это был командирский пес, лохматый, клыкастый, с голосом, точно у протодьякона — ревущий бас. Гололобый со страху побелел, как морская пена. Но тут же опомнился, в ярь вошел. Глаза стали красные, как у соленого сазана. Поднялся шум — всех святых уноси.
— Это что за безобразие! На судне псарню завели!..
Но для Лоцмана, что нищий в рваной одежде, что адмирал в золотых погонах, — все равно: заслуг он не признает. Еще сильнее начинает лаять.
В кают-компанию вбегает командир. Я впервые вижу его таким растерянным, обескураженным, чего не случалось с ним даже при встрече с неприятельским миноносцем. Он даже не пытается унять своего пса, заставить его замолчать.
Гололобый обрушивается на командира, надрывается, синеть стал, как утопленник.
— Это мерзость!.. Под суд отдам!.. Всех отдам!..
А Лоцман тоже не уступает — поднял шерсть и готов вцепиться в бедра его превосходительства.
Нам и любопытно, кто кого перелает, и в то же время страх берет, чем все это кончится.
Наконец Лоцмана уняли, но не унимается Гололобый.
— Папочка! — обращается к нему дочь. — Папочка! Тебе же доктора запретили волноваться.
— Да, да, это верно… Горячиться мне вредно. Но меня псина эта вывела из равновесия…
Гололобый начинает затихать, а дальше и совсем обмяк.
У него всегда так выходит: нашумит, нагрохочет, точно пьяный черт по пустым бочкам пройдется, и сразу затихает. В сущности, адмирал он безвредный, даже добрый в сравнении с другими.
Приказывает выстроить нас на верхней палубе. Обходит фронт, шутит с каждым, улыбается.
— Ты что, братец, женат? — спрашивает у одного матроса.
— Так точно, ваше превосходительство.
— А это хорошо, хорошо. Вернешься домой, а тут тебя женка ждет.
Другой матрос оказался холостым.
— Вот и отлично! — одобряет Гололобый. — Забот меньше, не будешь тосковать, не будешь беспокоиться, как там супруга поживает.
Подходит к Зобову.
— Ты что это, братец, серьезный такой, мрачный?
— С детства это у меня, ваше превосходительство.
— Что же случилось?
— С полатей ночью в квашню упал.
— Значит, ушибся?
Зобов преспокойно сочиняет дальше:
— Никак нет, ваше превосходительство, потому что я в самое тесто попал. И до утра там провалялся.
С той поры и началось у меня это — скучище. Мать говорит, что мозги мои прокисли…
Хохочет Гололобый, смеется дочь, улыбаются офицеры и команда. Становится весело.
Доходит очередь до Залейкина. Веснушчатое лицо его строго-серьезное, как у монаха-отшельника, а глаза прыщут смехом.
— Ты чем до службы занимался?
— По медицинской части, ваше превосходительство.
— Как по медицинской?
— При университете в анатомическом театре работал вместе со студентами.
— В качестве кого же?
— А без всякого качества — просто сторожем служил. Подавал человеческие трупы, а убирал только куски от них…
Гололобого от смеха даже в пот бросает. Он то и дело снимает фуражку и вытирает платком лысину.
— Ты, значит, знаком с анатомией?
— Так точно, я ее, можно сказать, всю на практике прошел, анатомию-то эту самую.
— В таком случае скажи-ка, братец, почему это я толстый?
Залейкин шевельнул бровями и отчеканил серьезно:
— От ума, ваше превосходительство!
— Это что же значит?
— В голове ум не помещается — в живот перешел…
— Хо-хо-хо! — грохочет Гололобый, точно ломовик по мостовой катит. — Молодец! Люблю находчивых матросов! Вот тебе за умный ответ…
Дает Залейкину трехрублевую бумажку.
А когда Гололобый удалился, мы еще долго смеялись, смеялись до слез.
— Ой, батюшки! — жалуется боцман. — Я живот свой надорвал от смеха. Вот лысый идол, начудил…
— Что вы, братва, все лысый да лысый! — вступается Залейкин. — А я доложу на этот счет совсем другое…
— А ну, удумай что-нибудь!
— Вот козлы и ослы никогда не лысеют, а какой толк в них! Могут они, скажем, академию кончить и дослужиться до его превосходительства?
И опять смех среди команды.
А когда заговорили об адмиральской дочери, все стали злыми: пребывание на подводной лодке женщины нам даром не пройдет.
По гавани с коммерческих и военных судов разноголосо прозвучала медь отбиваемых склянок. Через полчаса мне предстоит смена. А пока что я с винтовкою в руках стою на верхней палубе «Мурены».
Солнце точно играет в прятки: то спрячется за облако, то опять обольет светом. Легкий ветер скользит по морю, словно пыль с него сдувает. Однако чувствуется, что погода начинает свежеть. Чайки нервничают: снежными комьями нижут воздух и беспокойно кричат. Ночью должна разыграться буря.
Я смотрю на морской простор, откуда доносится до меня угрожающий гул пропеллеров. Это парят наши гидропланы. Как они похожи на альбатросов! Некоторые спустятся на сизую поверхность моря, проплывут немного и снова взмоют в вечернее небо. С высоты виднее, не крадется ли где-нибудь в недрах моря неприятельская субмарина. Один из гидропланов, это чудо из чудес человеческого разума, вонзился в облако и скрылся за его пределами. Что ему там нужно? В гавани, недалеко от нас, дымит одной трубой их матка — «София». Для гидропланов она является такой же базой, как наш «Амур» для подводных лодок.
Куда-то уходит, огибая мол, «Мудрец». Это — двойное судно, похожее издали на железный мост с двумя быками. На нем имеются подводные краны мощной силы. Оно появилось на божий свет только во время войны и приспособлено исключительно для того, чтобы спасать погибшие подводные лодки.
«Мудрец» выходит на большой рейд и продолжает свой путь дальше. Я провожаю его глазами, а в голове возникает тоскливая догадка, что где-то в море произошло несчастье.
— Слышишь, что ли, Власов? Или оглох?
Поворачиваюсь на зов: с набережной кричит мне наш рулевой Мазурин. Из-под коричневых усов расползается такая довольная улыбка, точно его сразу произвели в адмиральский чин.
— В чем дело?
— Носатый-то ведь повел ее, твою кралю. Вон туда пошел, за город…
— Убирайся к черту!
Он еще что-то говорил, но я уже больше ничего не слышал. Помутилось сознание. Я не помню, как сменился с поста. Мне никуда не хотелось идти, но что-то толкало меня за город, как парус ветром.
Берег оказался безлюдным. Закат грозно нахмурил огненные брови. Из-под них упрямо смотрел на меня воспаленный зрачок солнца. Медленно опустились багряные ресницы. Будет дело! В воздухе послышался гул! Пой, ветер, пой панихиду! Прибою захотелось подшутить: разостлал передо мною ковер из белой пены, но тут же отпрянул назад. Неужели я такой страшный?
Но где же, где эта счастливая пара? Мне хочется посмотреть им в глаза.
Начинается бугристое место. Впереди что-то мелькнуло. Ускоряю шаги. Так и есть: идут под руку. Полина первая заметила меня. Метнулась в сторону, точно Мухобоев оттолкнул ее. Он тоже оглядывается…
Сближаемся. Они останавливаются и ждут. Хочу быть спокойным, как индусский идол. Злобу свою сдерживаю, как цепную собаку. Полина не смотрит на меня, стоит с понурой головой, словно в ожидании приговора. Ветер раздувает ее юбку, играет локонами. Мухобоев первый заговаривает со мною:
— А, Семен Николаевич! Куда это ты так торопишься?
— Не дальше этого места.
— Разве что забыл здесь?
— Ничего, кроме подлости!
— Вот как!..
Разговор обрывается. Только сверлим друг друга глазами. Слышно, как под отвесным берегом рокочет прибой. Молчание наше становится тягостным. Мухобоев и на этот раз заговаривает первым: