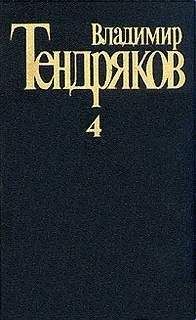А может, все-таки приспособишься от всего отмахиваться, от всего прятаться, лгать уже не только другим, но и самому себе. И для убедительности подбадривать себя — бей, души тех, кто не похож на тебя, жалеть незачем, не думай о совести, ее у тебя, насквозь изолгавшегося, просто нет.
Хочешь стать прежним? Прежний Юрий Рыльников был честным человеком, ты становишься прохвостом.
После этого незначительного случая все вернулось на круги своя. Не хочу жить, прячась и обманывая! Не хочу, но и не осмеливаюсь взбунтоваться, заявить все открыто: «На том стою и не могу иначе!» Рад бы, а Инга, а дочь, а как-то отзовется на них, как-то они примут мой бунт?..
Какой выход? Кто подскажет? Никто!
Остается одно: нет, не ванна и не лезвие бритвы, не кусок веревки… Инге это искалечит всю жизнь, всю жизнь страдать: не поняла, не разглядела, не предупредила. Я люблю ее, не хочу ей несчастья. Нет, не ванна, по-другому… Может же, скажем, произойти несчастный случай — электричка сбила зазевавшегося человека где-то на перегоне Лосиноостровская — Мытищи.
Решение зрело, но я тянул…
А тем временем пришла весна, по согретому асфальту девочки с косичками прыгали «в классики», городские скверы окутались дымком проклюнувшихся листьев… Мне не исполнилось и тридцати трех, обидно уходить из мира, так и не досказав: «На том стою и не могу иначе!» А наверное, я смог бы доказать, если б не страх за семью. Наверное, я для чего-то пригоден. Богов для веры люди создают. Я смог бы участвовать в этом созидании.
Весна входила в город. Ползла из всех щелей пронзительная травка.
Я не могу жить, но не могу и умереть. Какой выход? И есть ли он?
Весна! Весна!.. В молодом скверике напротив расцвела юная вишенка. Листьев почти нет, только белая кипень. Есть ли выход?
Есть!
Я люблю дочь, люблю жену. На всем свете нет у меня никого ближе, никого дороже. Но именно потому, что они так близки, родны до боли, я должен от них бежать…
Весна! Весна! Свадебный куст вишни…
Сейчас мы все трое — Инга, дочь, я — прикованы друг к другу. Кандальные каторжники, мы не должны мечтать о свободе до тех пор, пока вместе. Мы любим друг друга и закрепощаем друг друга. Инга не может засесть за диссертацию, я не могу оставаться самим собой — не живу, а прячусь, трусливо лгу и притворяюсь…
Весна! Весна! Пора возрождения…
Мы любим. Рано ли, поздно эта взаимная крепостническая любовь вызовет ненависть и вражду. Я уже задыхаюсь. Пора!..
У Танюшки не будет отца, у меня — дочери.
Но другого-то выхода нет.
А может, есть? Может, не навсегда, а только на время? Проветрись, остынь и — вернись.
Надеешься: у тебя пройдет, станешь прежним? Созревший плод не может стать снова зеленым. Есть процессы необратимые, и ты это хорошо понял на горьком опыте последних дней.
Не станешь прежним, не рассчитывай на прежнюю жизнь. У Танюшки не будет отца…
Исчезни! Изыди! Сгинь! Не свершишь это сейчас, случится позже — бредишь же кровавой ванной и зловещим стуком электрички…
Исчезни, пока не поздно! Куда?..
Туда, где есть похожие на тебя. А они есть, есть, письмо старого учителя — доказательство тому. Но только не к этому учителю. Жить рядом с тем, на кого навел, кого трусливо не посмел взять под защиту, жить и помнить о своем отравленном прошлом? Нет! Прошлое зачеркнуть!
Инга примет твое бегство как предательство. Что ж, она по-своему права. Предательство, но последнее, чтоб больше уже не предавать никого. Простите, родные, вы ведь не захотите, чтоб я исчез иным способом.
Прости, Таня… «Избушка, избушка, стань ко мне передом, к лесу задом». Я уже не смогу рассказать тебе самой главной сказки о добром нищем.
И вот яркий майский день, башня Казанского вокзала в голубом облачном небе, очередь у вокзальной кассы:
— До Новоназываевки, пожалуйста.
До Новоназываевки не доехал.
* * *
Стою сейчас посреди заброшенного кладбища, гляжу на облупленные стены заброшенной церкви, на пустую колокольню. Башни Казанского вокзала далеко в прошлом…
Ошибся, не там вышел, здесь бог давно не ночует. Надо искать дальше.
Отче наш, иже еси на небеси!
Да святится имя твое,
Да приидет царствие твое,
Да будет воля твоя
Яко на небеси и на земли.
Мне надо бога. Мне надо хлеба. «Даждь нам днесь».
Инга еще пока ни о чем не догадывается…
Река нежно обнимает лобастый холм. С высоты холма, с крутого лбища в мутную, еще не улегшуюся после весеннего половодья воду глядит коренастая церквушка. Избы полуизумленно отбежали за реку, в гуще драночных и тесовых крыш стоят дома не кондово избяной, а казенной, под железом, постройки — здесь магазин, здесь школа, здесь контора колхоза, здесь центр села Красноглинки.
В Красноглинке единственная во всем районе действующая церковь, а потому я упрямо пробивался сюда.
В конце прошлого века Чехов добирался от Москвы до Сахалина без малого три месяца. Сейчас от Москвы до Сахалина лету каких-нибудь десять часов. Планета сократилась по размерам раз в двести!
Сократилась, но не всюду. Село Красноглинка теперь от Москвы дальше Сахалина, дальше Антарктиды. Я до него ехал шесть дней — сутки поездом и пять от станции через районный центр Густой Бор на случайных машинах. Пятисуточная одиссея по весенним непролазным дорогам: Чехов своим «конно-лошадиным странствием» сумел бы попасть сюда куда быстрее.
Во время пути у меня было достаточно времени разузнать о Красноглинке.
Первый человек там — некий Густерин, председатель колхоза, личность, судя по рассказам, легендарная. Никого в районе не били так строгачами, никого так часто не перебрасывали с понижением, не снимали с работы, как Густерина. По причине ли — «она меня за муки полюбила» или же «битый неслух ближе сердцу ласкового неука», но так или иначе, а нынче районное начальство, как к никому, относится к Густерину с уважением, хотя колхоз у него и не самый богатый…
Жила в Красноглинке еще одна личность, не менее знаменитая — поп Амфилохий. Он славился тем, что был красив, — даже неверующие девицы ездили из райцентра за тридцать километров в Красноглинку поглазеть на него и послушать. Он подписывался всегда первый на государственный заем, сразу выкладывал на стол многие тысячи, он красочно и вдохновенно ругал в проповедях греховную страну Америку и восхвалял космические спутники. Куда и как исчез отец Амфилохий — никто мне не сказал, но славу его хранят. Кто на его месте сейчас?.. А бог его знает, церковь-то действующая, значит, и поп быть должен.
Уборщица в районном Доме колхозника мне даже посоветовала, у кого могу остановиться в Красноглинке:
— Евдокия Ушаткова как перст одна, характером тихая, заботливая и не совсем еще стара, обиходить будет.
— Раз возле церкви живет, то, наверно, и в бога верит? — спросил я.
— Как не верить. Мужа-то у ней еще на фронте убили, а дочь лет десять тому назад похоронила. Замолишься. Да тебе-то что за беда, за свою веру она лишнего с тебя не попросит.
Евдокия Ушаткова — это то, что мне нужно.
Из окна избы тетки Дуси в наплывающих сумерках виден поросший молодой травкой тихий проулок, по которому бегают лишь отощавшие за зиму, со свалявшейся нечистой шерстью овцы. Над травянистым проулком, над черноземно-драночными крышами, над молодыми черемухами, даже над вскинутыми в небо на шестах скворечниками патриарше возвышается старая береза — ствол, как выветренная скала и угловатое переплетение костистых ветвей. Листья на ней растут местами — береза клочковато зелена, долгий век ее подходит к концу — усыхает.
Усыхает и Евдокия Ушаткова, тетя Дуся — маленькая голова туго стянута ситцевым платочком, на скулах сыренький вишневый румянец, нос острый, синичий, глаза запавшие, голубые, как поблекшие цветки ленка, суетлива, но без услужливости, разговорчива, но без назойливости.
— Уж не знаю, понравится ли тебе, сокол. Палаты-то мои не красны. Сама-то сплю в обнимку с горшками.
В просторной избе какая-то нежилая пустота, некрашеный, незатоптанный пол с узловатыми глянцевитыми сучками, могучие, проморенные временем, отполированные задами не одного поколения лавки, на пол-избы печь, выбеленная серой известкой, под ней щербатые горшки, стол со скобленой столешницей, иконы в углу, безликие, сумрачно копотные, возле них — жестяной висюлькой лампада. Мой угол за занавеской, там все место занимает деревянная кровать с холщовым грубым матрасом, набитым сеном.
Я разбирал свой чемодан, вместе с электробритвой вынул свою потрепанную Библию — на ветхом кожаном переплете оттиснут крест.
— Никак, свяченое? — удивилась тетка Дуся. — Уж не веришь ли в бога, сокол?
— Верю.
Мое первое открытое признание, конец моей нелегальщине.