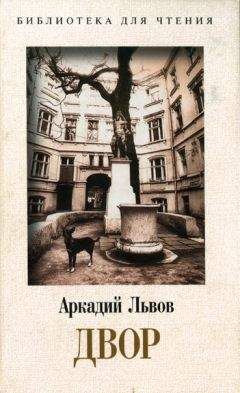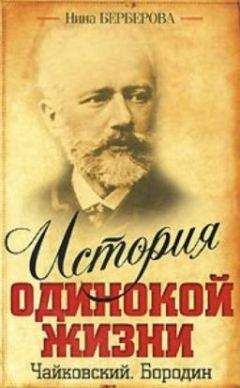— Многоуважаемая, — обратился Граник, — человек должен быть отзывчивым. Если Чеперухе нравится после работы зайти на Привоз и посмотреть, какого цвета сегодня стакан вина, кому от этого плохо? А человек получает удовольствие. Можете — составьте ему компанию, а бросать кизяком — это некрасиво.
— Он меня посылает пить с этим шикером! — взвинтилась Дина. — Иди сам пей с ним, и пусть твоя жена снимает с тебя подштанники, а ты дыши ей в лицо своей блевотиной!
Ефим уже приподнял тачку и собирался отъехать, но слова Дины Варгафтик взяли его за живое, он опустил тачку и обратился к людям с вопросом, слышали они или не слышали, что сказала эта женщина. Люди слышали и подтвердили вслух, но мадам Малая приказала, чтобы Ефим немедленно закрыл свой рот, иначе она будет рассматривать его действия как сознательный саботаж. Хорошо, сказал Ефим, он будет молчать, но одновременно он требует товарищеского суда за оскорбление личности: два года назад ему сделали резекцию желудка, доктор велел пить воду, как птичка, а эта женщина говорит, пусть жена снимает ему штаны и дышит его перегаром.
— Сексота! — Ефим задрал рубаху. — Смотри, какой шрам на животе!
— Граник, — совсем потеряла терпение мадам Малая, — спрячь свой живот и давай работай, иначе получишь такую норму, что бандюгам на Беломор-канале не снилось!
Хорошо, ответил Ефим, он уступает из личного уважения к мадам Малой, однако насчет товарищеского суда подает письменное заявление и требует считать с этого момента.
Даже на час раньше, сказала Клава Ивановна. Ефим заявил, милостыня ему не нужна, он пойдет узнать точное время, повернулся, чтобы идти, мадам Малая тут же схватила за шиворот и закричала:
— Паршивый лодырь, пусть меня сошлют на Соловки, но я буду не я, если не прикончу тебя!
Ефим пришел в ужас: на Соловках одни кулаки, воры и проститутки, хорошая компания для нашей мадам Малой! — Клава Ивановна размахнулась, чтобы дать по губам, но тут из прачечной выскочила Аня Котляр, вслед за ней Степа Хомицкий, оба мокрые с ног до головы. Степан закричал, что перекрыл воду, а какая-то сволочь полезла в люк и открыла главный вентиль.
Люк находился в черном дворе. Степа, мадам Малая и Ефим побежали втроем, Котляр осталась на месте отжимать платье. Женщины помогали ей и не переставали удивляться, какой сильный напор, когда не надо, а потом, как будто уговорились, начали хором смеяться. Аня сказала, теперь ей тоже смешно, но в тот момент ей казалось, начался всемирный потоп.
— Слава богу, — воскликнула Дина, — ты была не одна: рядом был Степан. А Иосиф спокойно себе работает и даже не подозревает, что жена из последних сил барахтается с соседом.
Аня покраснела, женщины хохотали до слез, щипая себя под мышками, чтобы остановиться, но в это время пришла Оля Чсперуха, с ходу заявила, что она тоже хочет смеяться, — и все повторилось сначала. На Олю напала икотка, она просила, чтобы ее крепко держали, а то произойдет несчастье, несчастье действительно произошло, женщины закричали «фу!» и еще сильнее стали смеяться.
Этот дурацкий смех мадам Малая услышала в черном дворе и закричала, что с такими людьми без участкового разговаривать нельзя, но она обойдется как-нибудь без участкового. А потом, увидя Олю Чеперуху, она возмутилась до последней степени, потому что не кто иной, как Зюнчик, Олин сын, подбил Кольку залезть в люк и открыть вентиль.
Степа застал обоих, своего Кольку и Зюнчика, в люке. Первое желание у него было задраить люк, и пусть посидят там до утра. Клава Ивановна сказала, так дети могут сделаться заиками на всю жизнь, и приказала выпустить. Степа схватил одного и другого за шиворот, стукнул лбами и велел вылазить. Зюнчик выполнил приказание в одну секунду, а Колька заплакал и объявил, что вообще не выйдет и будет сидеть, пока не умрет с голода. Мадам Малая набросилась на Зюнчика и потребовала, чтобы он честно признал себя зачинщиком, иначе от Кольки останется одно мокрое место.
Да, подтвердил Зюнчик, он первый туда залез, а Колька стоял наверху и не хотел. Потом Зюнчик повторил эти слова в присутствии своей мамы, она схватила его за чуб и стала водить с одного боку на другой, но после пятого-шестого захода он вдруг присел, сделал прыжок в сторону, и Оле оставалось только кричать вдогонку, пусть вернется по доброй воле, а то папа придет, будет хуже. Клава Ивановна тоже предупредила, пусть лучше вернется, но Зюнчик по личному опыту знал: будет потом хуже или нет, наперед можно только гадать — главное, чтобы сейчас не было хуже. В час дня Клава Ивановна вспомнила, что Зюнчику пора в школу, а портфель с тетрадями дома.
— Ой, — схватилась Оля и побежала домой.
— Подожди, — остановила Клава Ивановна. — Он боится и в квартиру не зайдет. Положи портфель возле дверей, а сама уйди, только не хитри и не прячься: у детей собачий нюх.
Оля заплакала: ей так трудно с ним, он самолюбивый мальчик, с ним надо всегда по-хорошему, а разве можно всегда по-хорошему, если каждый день какие-нибудь пакости.
— Перестань плакать, — приказала Клава Ивановна. — У него не должно быть мыслей, что ты чересчур переживаешь, а то он совсем сядет на голову.
Да, кивнула Оля, да, когда Зюнчик видит, как она переживает, он сначала немного жалеет ее, обещает быть хорошим, а через полчаса у него все вылетает из головы, и он опять как будто с цепи сорвался.
— И хорошо, — сказала мадам Малая. — Дети не должны долго держать горе в своем сердце — еще успеют.
После обеда инженер Лапидис вырвался на минуточку с работы и прибежал посмотреть, как идут дела. В прачечной Хомицкий с Аней Котляр разбирали плиту, пыль стояла столбом, Лапидис дал совет побрызгать кирпичную кладку, открыть полностью дымоход, чтобы тяга была сильнее, и растворить настежь окна.
— Какой вы умный! — сказала Аня. — У себя в конторе вы боитесь простудить сквозняком свои толстые жени, а здесь здоровье людей вас не волнует: пусть хватают себе ишиас и воспаление легких.
— Товарищ Котляр, — засмеялся Лапидис, — во-первых, у нас жени не толще, чем у вас, во-вторых, мы не сидим в конторе, а в-третьих, мое дело дать совет, а ваше дело — не воспользоваться.
— Ну, — скривилась Аня, — вы человек с образованием, вы всегда можете переговорить любого.
— Степан, — обратился Лапидис, — я молчу, скажи ты. Хомицкий ответил, здесь говорить нема чего, женщина есть женщина, а насчет Лапидиса добавил: дай бог все бы такие были, можно жить и с образованными.
— Хорошо, — пошла на уступку Аня, — наверно, я ошиблась: он особенный оригинал, не как другие.
— Спасибо, — поклонился Лапидис. — Когда аттестует женщина с такими глазами, можно только пожалеть, что у нее нет своей гербовой печати.
— Ой, не выдумывайте, — вспыхнула Аня, — все говорят, у меня противные зеленые глаза, как у дикой кошки.
Кстати, вспомнил Лапидис, у Бальзака есть роман «Дом кошки, играющей в мяч».
— В мяч? — удивилась Аня. — Почему в мяч?
Степан замесил ведро цемента и запел: эх, яблочко, куда ты котишься, попадешь под меня — не воротишься!
Фи, скривилась Аня, какая вульгарная песня. Лапидис поддержал и предложил зайти за Бальзаком.
— А чего мне к вам ходить! — опять вспыхнула Аня. — Надо будет — я сама найду дорогу в библиотеку. Если очень хотите, можете записать название на бумажке.
Лапидис вырвал листок из блокнота, записал название и передал Ане. Клава Ивановна увидела в окно, что Степа один работает, а Котляр и Лапидис в это время обмениваются записками, распахнула обе створки, протянула руку и потребовала, чтобы бумажку немедленно положили ей прямо на ладонь.
— Клава Ивановна, — Аня машинально засунула бумажку под лифчик, — мы же просто шутим.
— Я знаю, что вы просто шутите, — сказала мадам Малая, — и прошу по-доброму: дай мне записку.
— Не отдавайте, — вмешался Лапидис. — Тайна переписки в СССР охраняется законом.
— Ладно, — мадам Малая посмотрела нехорошими глазами на Аню, на Лапидиса, — можете оставить свои секреты себе, но кто думает, у Малой в голове уже склероз, сильно ошибается.
— Боже мой! — Аня вынула записку из-под лифчика. — Нате вам и читайте себе на здоровье.
— Нет, — категорически отказалась мадам Малая. — Мне чужие записки не нужны. Забери обратно и спрячь, где раньше — под цицкой.
— Клава Ивановна, — Лапидис почесал кончик носа, — вы большой психолог. Перестаньте волновать женщину.
Когда нет из-за чего, сказала Клава Ивановна, человек не волнуется, а волнуется, значит, есть из-за чего.
Аня вытерла фартуком глаза и потребовала, чтобы Лапидиса прогнали, а то своими разговорами лишь отвлекает и не дает работать.
— Ату его, ату его! — весело закричал Лапидис, потом вдруг сделался серьезный и сказал, что именно за это — за прямоту и принципиальность — уважает нашего советского человека.